Интеллектуальный язык эпохи - [57]
Предмет металингвистики Бахтин мыслил как «слово не в системе языка и не в изъятом из диалогического общения „тексте“, а именно в самой сфере диалогического общения», то есть как высказывание, мы бы теперь сказали: дискурс. Ван Дейк, четко разграничивая «употребление языка и дискурс», трактует последний как «коммуникативное событие социокультурного взаимодействия» и невольно воспроизводит бахтинско-волошиновские формулировки 20-х годов, включая в состав дискурса «говорящего и слушающих, их личностные и социальные характеристики, другие аспекты социальной ситуации», в частности «значения, общедоступные для участников коммуникации, знание языка, знание мира […] установки и представления»[364].
Размышляя о речевых жанрах, Бахтин размышлял уже не об эмпирических участниках коммуникативного события, но о риторических параметрах дискурса: «Говорящий человек. В качестве кого и как […] выступает говорящий человек […]. Форма авторства и иерархическое место (положение) говорящего […]. Соотносительное иерархическое положение адресата высказывания»[365] и т. д. А «главный критерий завершенности высказывания» для него — «способность определять активную ответную позицию других участников общения» (с. 185).
Итак, слово «риторика» для Бахтина оказывается неприемлемым и мертвым, но риторическая идея поисков эффективности коммуникативного взаимодействия сознаний для него жива и действенна.
Бахтинские размышления о природе высказывания существенным образом предвещают научное направление французского дискурсного анализа — одного из наиболее значительных ответвлений неориторики.
Исследовать дискурс для Мишеля Фуко в 1969 году («Археология знания») «означает не проанализировать отношения между автором и тем, что он сказал (или хотел сказать, или сказал, не желая того), но определить положение, которое может и должен занять индивидуум для того, чтобы быть субъектом» данного высказывания[366]. Фуко ведет речь «вовсе не о говорящем сознании, не об авторе формулировки, но о положении, которое может быть занято при некоторых условиях различными индивидуумами»[367].
Риторического субъекта Фуко, как и Бахтин, именует функцией высказывания, вытесняющей романтический образ самовольного творца текстов: «Субъект высказывания является определенной функцией, которая в то же время вовсе не одинакова для двух разных высказываний»[368]. «Он является определенным и пустым местом, которое может быть заполнено различными индивидуумами»[369].
Тот же аспект текстопроизводства занимал и Бахтина, когда тот писал: «Авторские формы существенно традиционны и уходят в глубокую древность. Они обновляются в новых ситуациях. Выдумать их нельзя (как нельзя выдумать язык)»[370]. Фуко, в свою очередь, «в толще дискурсивных практик» обнаруживает «системы, которые устанавливают высказывания как события»[371].
Такого рода системы Фуко именует «дискурсными формациями». Они интерсубъективны, поскольку представляют собой пространство общения (со-общения, при-общения, раз-общения), которое не может быть ни чисто внешним (объективным), ни чисто внутренним (субъективным). Ни говорящий, ни слушающий, по мысли Бахтина, «не остаются каждый в своем собственном мире; напротив, они сходятся в новом, третьем мире, мире общения» (с. 210).
Инстанция объекта также оказывается у Фуко функцией актуализирующего его текста, ибо Фуко исследует дискурсивную «практику, которая систематически формирует объекты, о которых они (дискурсы) говорят»[372]. В этом отношении также имеет место существенная перекличка с Бахтиным, писавшим в свое время: «Предмет речи говорящего […] уже оговорен, оспорен, освещен и оценен по-разному […]. Говорящий — это не библейский Адам, имеющий дело только с девственными, еще не названными предметами […] и потому самый предмет его речи неизбежно становится ареной встречи» (с. 198–199) взаимодействующих субъектов.
Мысля — подобно Бахтину или ван Дейку — высказывание как «не повторяющееся (коммуникативное. — В.Т.) событие», которое «имеет свою пространственную и временную единичность»[373], Фуко исследовал «стратегические возможности» выбора в акте текстопорождения. Эти возможности аналогичны «речевым жанрам» Бахтина, который писал: «Мы все говорим только определенными речевыми жанрами, то есть все наши высказывания обладают определенными и относительно устойчивыми типическими формами построения целого» (с. 180).
Фуко, со своей стороны, рассуждал о том, что избираемые говорящим/пишущим возможности «образуют для высказываний поле стабилизаций, которое, несмотря на все различия актов высказывания, позволяет им повторяться в своей тождественности»[374]. Это поле стратегических регулярностей образуют «различные модальности высказываний», они «отсылают к различным статусам, местам и позициям, которые субъект может занимать или принимать, когда поддерживает дискурс»[375]. Тексты для Фуко являются дискурсами постольку, «поскольку им можно назначить модальности»[376].
Я указал только некоторые конвергенции, развертывание которых приводит к эффекту бахтинского «диалога согласия» между французской l'analyse du discours и русской металингвистикой Бахтина. И то и другое — псевдонимы риторики, мыслимой ныне в ее обновленном статусе как «дискурсоведение».

Книга посвящена практически не исследовавшейся в России проблеме сообщества, понимаемого не как институциональное образование, но как условие прочтения самых разных текстов современной культуры. В сферу рассмотрения включаются такие сюжеты, как художественный авангард начала XX века, утопическое в массовой культуре, событие и документ (в том числе Событие с заглавной буквы), образ в противоположность изображению, «множество» и размышления о политических изгоях. Сообщество, понимаемое как форма коллективной аффективности или как «другое» существующего общества, оставляет след в литературных, кинематографических и фотографических произведениях.Книга публикуется в авторской редакции.

Нарратология принадлежит к числу наиболее энергично развивающихся в последние годы областей гуманитарного знания. «Нарратологический поворот» широко востребован в различных сферах культуры, науки и общественной жизни, однако ведущая роль здесь по-прежнему принадлежит литературной нарратологии. При этом количественно более развитая на сегодняшний день западная нарратология до сих пор остается излишне схоластичной, игнорируя исторический подход к предмету своих интересов. Предлагаемая монография является результатом многолетних исследовательских поисков, направленных на формирование исторической нарратологии в качестве инновационного и весьма перспективного научного направления, опирающегося на лучшие традиции отечественного литературоведения (А.

Имена этих женщин у всех на слуху, любой культурный человек что-то о них знает. Но это что-то — скорее всего слухи, домыслы и даже сплетни. Авторы же этой книги — ученые-историки — опираются, как и положено ученым, только на проверенные факты. Рассказы и очерки, составляющие сборник, — разные по языку и стилю, но их объединяет стремление к исторической правде. Это — главное достоинство книги. Читателю нужно лишь иметь в виду, что легендарными могут быть не только добродетели, но и пороки. Поэтому в книге соседствуют Нефертити и Мессалина, Евфросинья Полоцкая и Клеопатра, Маргарита Наваррская и др. Для широкого круга читателей.

Они были. Кого-то помнят, кого-то забыли. Исторические миниатюры о людях, хороших и не очень. Но обязательно реальных. Новые очерки добавляются два-три раза в неделю. Иллюстрация на обложке Ильи Комарова, используется с разрешения автора. Но только в одном очерке и не мою. Сам я ею не пользуюсь. Содержит нецензурную брань.

О. Ю. Владимирская в монографии «Алкмеониды и Филаиды афинские» даёт характеристику крупным родам, из которых вышли аристократические лидеры, формировавшие внутреннюю и внешнюю политику афинского полиса. Монография составлена на основании диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, защищенной на историческом факультете Санкт-Петербургского Университета в 1997 г.
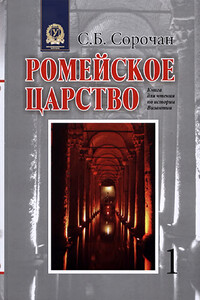
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.

Книга является наиболее полным и серьезным историко-географическим исследованием одного из крупнейших княжеств Древней Руси, охватывавшего земли от Чернигова на западе до Коломны и Рязани на востоке. Книга включает неопубликованную диссертацию выдающегося специалиста по исторической географии (1976) А. К. Зайцева, а также статьи из малотиражных сборников по истории населенных пунктов, входивших в состав Черниговского княжения. Издание содержит составленные автором карты и сводную итоговую карту, подготовленную В.
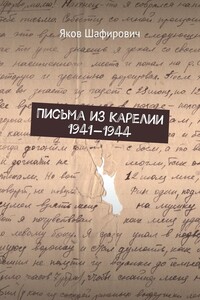
Яков был призван в армию и покинул родной город 24 мая 1941 г. Он вернулся домой в ноябре 1944 г. после третьего ранения. В своих письмах маме и другим близким он с предельной откровенностью описывал все, что ему пришлось пережить на Карельском фронте. Письма раскрывают процесс превращения интеллигентного юноши, участника драмкружка, в опытного бойца и командира.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.