Интеллектуальный язык эпохи - [51]
Тезис, сформулированный в газетной заметке и «успешно преодоленный» в сборнике, имеет не только риторический и жанрово обусловленный смысл. Следует вспомнить, что еще до революции Эйхенбаум тяготел к так называемой «эстетической» критике, увлекался психологией творчества и модными идеями Анри Бергсона, писал рецензии на переводы «Творческой эволюции». Ко второй половине 1910-х годов Эйхенбаум провозгласил свое тяготение к акмеизму, что было своего рода «полумерой» на пути к радикальности раннего формализма, в лице Шкловского, отвечавшего за близкое родство с футуризмом. Если вслед за Эйхенбаумом рассматривать биографию как сюжет, то его встреча с ОПОЯЗом была резким сдвигом, остранением пути в академическую науку через любовь к литературе. Чисто читательская установка (а дореволюционный критик — это не более чем пишущий читатель) получила иное направление, эстетическая проблематика превратилась из приоритета в объект угнетения, но не исчезла. Идея структуры и порядка лишь заслонила, но не отменила феноменологию искусства, которую надо было переформулировать и проговорить заново, с того самого чистого листа. Кино с его соблазном чистой репрезентативности, показом вещи, которая не опосредована рассказом, оказалось для Эйхенбаума неожиданным источником интеллектуальной ностальгии. В «основополагающих» заметках на страницах газеты «Кино», как и в «итоговых» «Проблемах киностилистики», прочитывается рецидив феноменологической прививки к окрепшему древу формализма. В этом смысле совсем не случайны и рассуждения о фотогении (иррациональной категории, на которую истинный формалист налагает запрет), и благосклонные отсылки к книге Белы Балаша «Видимый человек» (переведена на русский в 1925 году), и мысли о сновидческой природе кино как системы восприятия, и уж совсем неожиданные, если не дерзкие, пассажи о соборности.
Вновь подтверждая обвинения Якобсона в «излишней» метафоричности, Эйхенбаум заимствует понятия, вводя их с иной мотивировкой и трактуя по-своему. Не меняются, но лишь уважительно цитируются мысли венгерского феноменолога, ученика Георга Зиммеля, автора теорий «многослойного изображения» и «выразительного тела» Белы Балаша[324]; они затрагиваются у Эйхенбаума в ключевых местах — в утверждении ритмической функции музыкального сопровождения немого киносеанса, «визуальной непрерывности» фильма и эффекта Zeitraum (Эйхенбаум не решается на перевод «пространство-время»). В отличие от идей Балаша, концепция фотогении уже успела примелькаться в литературе (хотя одноименная книга Луи Деллюка вышла по-русски только в 1924 году). К тому же она изначально была крайне размытой и приблизительной. Поворачивая ее под нужным углом, Эйхенбаум трактует фотогению не как визуальное совершенство предметов и людей, но как «заумную сущность», «органический фермент» кино, как присущую ему способность видеть. Она не нуждается в толковании, зато мы порой заинтересованы в ее толковании при помощи доступного нам «языка».
Особый интерес вызывает появление у Эйхенбаума понятия соборности. Происходит это в разделе, посвященном «массовости» кинематографа. Выглядит это так, будто термины из арсенала враждующих риторик — революционной и религиозно-философской — внезапно становятся синонимами. Между тем здесь подразумевается не славянофильская соборность, но скорее «плюрализм» Семена Франка, чьей книгой «Предмет знания» Эйхенбаум был увлечен в 1916–1917 годах[325]. Франк выступал против монизма, называя его «повторением бессмысленных тождеств», и утверждал «плюрализм» («многообразие различных форм единства»)[326]. В середине 1920-х годов из него вызревает концепция «солидарности». В 1925 году Франк издает в Париже книгу «Духовные основы общества», где соборность поминается не раз. Это не что иное, как всеобщая связь «я» с «другими». Отчужденность элементов массы на деле является минимальным условием соборности, которая скрыта в формах конкуренции и противоборства[327]. Соборность готова проявить себя в любом скоплении людей.
По понятным причинам Эйхенбаум осторожно употребляет «чуждый» термин и тонко расставляет акценты. С одной стороны, «давно назревала потребность в новом массовом искусстве — в искусстве, самые художественные средства которого были бы доступны „толпе“, причем толпе городской, не имеющей своего „фольклора“»[328]. С другой стороны, уже произошел «общий перелом культуры, во многом возвращающий нас к принципам раннего средневековья»[329]. И если до революции «на фоне других искусств кино выглядело чем-то примитивным»[330], то после нее воцарившаяся «примитивность» выявила полную несостоятельность «старого», некогда «высокого» театра. Тут-то и возникает переосмысленная «соборность», которая совсем не та соборность, что характеризует «эпоху театрального разложения», но соборность как фактор сплочения масс и тех, кто их обслуживает, — производителей кино, работающих вместе и никогда поодиночке. «Соборность производства» — это сочетание в духе не столько Эйхенбаума, сколько Алексея Гастева и раннего Пролеткульта![331]
Провокационная для 1927 года параллель между массовостью и соборностью смягчается последним и решающим уточнением: кино — это «соборность навыворот». Ведь известная массовость кино — «понятие не качественное, а количественное», «характеристика успеха кино», которое на самом деле дарит зрителю полное уединение. «Состояние зрителя близко к одиночному, интимному созерцанию, он как бы наблюдает чей-то сон»

Книга посвящена практически не исследовавшейся в России проблеме сообщества, понимаемого не как институциональное образование, но как условие прочтения самых разных текстов современной культуры. В сферу рассмотрения включаются такие сюжеты, как художественный авангард начала XX века, утопическое в массовой культуре, событие и документ (в том числе Событие с заглавной буквы), образ в противоположность изображению, «множество» и размышления о политических изгоях. Сообщество, понимаемое как форма коллективной аффективности или как «другое» существующего общества, оставляет след в литературных, кинематографических и фотографических произведениях.Книга публикуется в авторской редакции.

Нарратология принадлежит к числу наиболее энергично развивающихся в последние годы областей гуманитарного знания. «Нарратологический поворот» широко востребован в различных сферах культуры, науки и общественной жизни, однако ведущая роль здесь по-прежнему принадлежит литературной нарратологии. При этом количественно более развитая на сегодняшний день западная нарратология до сих пор остается излишне схоластичной, игнорируя исторический подход к предмету своих интересов. Предлагаемая монография является результатом многолетних исследовательских поисков, направленных на формирование исторической нарратологии в качестве инновационного и весьма перспективного научного направления, опирающегося на лучшие традиции отечественного литературоведения (А.
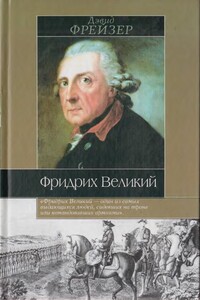
Фридрих Великий. Гений войны — и блистательный интеллектуал, грубый солдат — и автор удивительных писем, достойных считаться шедевром эпистолярного жанра XVIII столетия, прирожденный законодатель — и ловкий политический интриган… КАК человек, характер которого был соткан из множества поразительных противоречий, стал столь ЯРКОЙ, поистине ХАРИЗМАТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТЬЮ? Это — лишь одна из загадок Фридриха Великого…
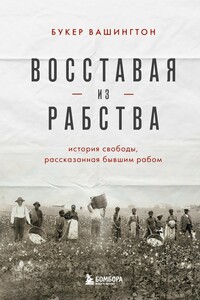
С чего началась борьба темнокожих рабов в Америке за право быть свободными и называть себя людьми? Как она превратилась в BLM-движение? Через что пришлось пройти на пути из трюмов невольничьих кораблей на трибуны Парламента? Американский классик, писатель, политик, просветитель и бывший раб Букер Т. Вашингтон рассказывает на страницах книги историю первых дней борьбы темнокожих за свои права. О том, как погибали невольники в трюмах кораблей, о жестоких пытках, невероятных побегах и создании системы «Подземная железная дорога», благодаря которой сотни рабов сумели сбежать от своих хозяев. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
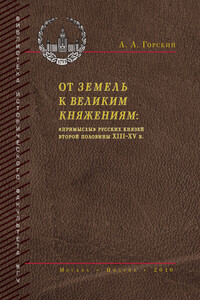
В монографии рассматриваются территориально-политические перемены на Руси в эпоху «ордынского ига», в результате которых вместо более десятка княжеств-«земель», существовавших в домонгольский период, на карте Восточной Европы остались два крупных государства – Московское и Литовское. В центре внимания способы, которыми русские князья, как московские, так и многие другие, осуществляли «примыслы» – присоединения к своим владениям иных политических образований. Рассмотрение всех случаев «примыслов» в комплексе позволяет делать выводы о характере политических процессов на восточнославянской территории в ордынскую эпоху.

Книга в трёх частях, написанная Д. П. Бутурлиным, военно-историческим писателем, участником Отечественной войны 1812 года, с 1842 года директором Императорской публичной библиотеки, с 1848 года председатель Особого комитета для надзора за печатью, не потеряла своего значения до наших дней. Обладая умением разбираться в историческом материале, автор на основании редких и ценных архивных источников, написал труд, посвященный одному из самых драматических этапов истории России – Смутному времени в России с 1584 по 1610 год.

Для русского человека имя императора Петра Великого – знаковое: одержимый идеей служения Отечеству, царь-реформатор шел вперед, следуя выбранному принципу «О Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, только бы жила Россия в благоденствии и славе». Историки писали о Петре I много и часто. Его жизнь и деяния становились предметом научных исследований, художественной прозы, поэтических произведений, облик Петра многократно отражен в изобразительном искусстве. Все это сделало образ Петра Великого еще более многогранным. Обратился к нему и автор этой книги – Александр Половцов, дипломат, этнограф, специалист по изучению языков и культуры Востока, историк искусства, собиратель и коллекционер.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.