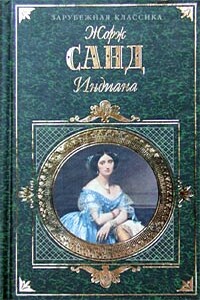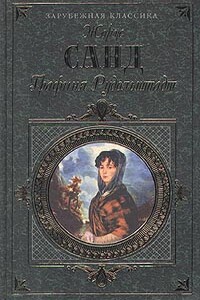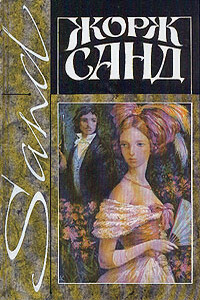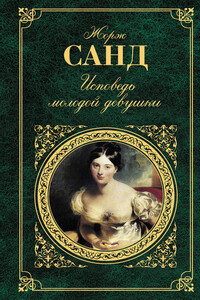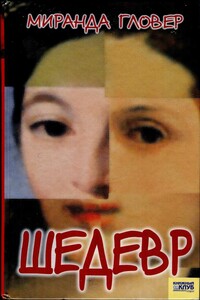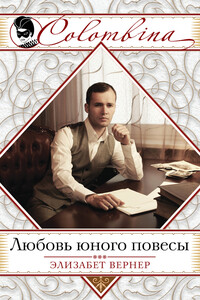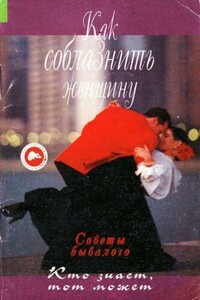Прощаясь с княгиней, я сказал ей, что было бы очень хорошо, если б Нази понравился Алеции, прибавив, что он вполне ее достоин.
Я отправился в комнату Нази, который, по моей просьбе, все уже приготовил к моему отъезду. Тогда уже было четыре часа утра. Франческа пришла со мной, и граф подумал, что она хочет проводить меня. Каково же было его удивление, когда она обняла его и сказала с видом трагической царицы:
— Нази, вы свободны! Старайтесь понравиться Алеции. Я возвращаю вам ваше слово и всегда буду любить вас как друга.
— Помилуйте, Лелио, — вскричал он, — неужели вы и эту у меня отнимаете?
— Нисколько, — отвечал я, — я и не думал об этом. Но неужели вы еще не знаете, как велика наша милая Франческа! В ее благородных жилах течет кровь Семирамиды, Мариамны и Гекубы. Она умеет наказывать, но умеет также и прощать. Вы ей изменили: она это забывает, вот прощение. Но зато вы должны жениться на Алеции: вот вам наказание. Алеция без всякого сомнения скоро забудет первую любовь свою, и когда она узнает, как много вы для нее сделали, узнает, что вы жертвовали своей кровью, чтобы спасти ее доброе имя, она, верно, с охотой отдаст вам свою руку. Кеккина говорит, что она очень хорошо знает женское сердце, и она так великодушна, что уступает вас своей сопернице.
Нази со слезами на глазах бросился в ее объятия.
На рассвете мы сели в карету. Когда мы проезжали мимо виллы Нази, из окна высунулась женщина. Она прижала одну руку к сердцу, другую протянула к нам в знак прощания и с живейшей признательностью подняла глаза к небу; то была Бианка.
Через полгода после этого, в прекрасный осенний вечер мы с Кеккиной приехали в Венецию. Мы оба были ангажированы в театр Fenice[33] и остановились в трактире на набережной Большого канала. Сначала мы несколько часов разбирали и приводили в порядок свои театральные костюмы. Пообедали мы уже после этого, довольно поздно.
За десертом мне принесли несколько писем, и одно из них тотчас обратило на себя мое внимание. Прочитав его, я вышел на балкон, позвал Кеккину и сказал, чтобы она посмотрела прямо напротив нас.
Из многочисленных палацев, тень которых ложилась на воды канала, один отличался от всех прочих своею величиной и древностью. Он был великолепно отделан заново, и все имело в нем праздничный вид. Сквозь окна видны были, при блеске тысячи свечей, прелестные букеты цветов, пышные занавесы. До нас долетали звуки огромного оркестра. Иллюминованные гондолы, безмолвно скользя по каналу, высаживали у дверей палаца женщин, убранных цветами и драгоценными каменьями, и мужчин в бальных костюмах.
— Знаешь ли, Кеккина, чей это палац, и по какому случаю дается тут праздник? — сказал я.
— Не знаю, да и знать не хочу.
— Это палац Альдини, и там празднуют свадьбу Алеции Альдини с графом Нази.
— Ого! — сказала она с полуудивленным, полуравнодушным видом.
Я показал ей пакет, который перед тем получил. Он был от Нази, и в нем два письма, одно ко мне, другое к Кеккине; оба очень милые.
— Ты видишь, — сказал я, когда Кеккина прочла письмо, — нам нечего на них жаловаться. Этот пакет был и во Флоренции и в Милане, но нигде не заставал нас, потому что мы так часто переезжали из одного места в другое. Эти письма учтивы и милы как нельзя более. Видно, что они писаны людьми благородными.
— Правда твоя, — сказала она. — Хоть они и знатные господа, а, право, очень хорошие люди. Жаль, в самом деле, что они не актеры!