Игрушки - [16]
В этот миг в маленьком филармоническом зале показался Иоганн Себастиан Бах собственной персоной. Вначале никто не понял что произошло, мистическое явление было подобно краже со взломом: он ворвался к нам в виде Badinerie из оркестровой сюиты B-moll. Помнится, в голове мелькнуло, что, видно, некий шутник за сценой, противник аутентичных исполнений, решил испортить вечер, наиграть на синтезаторе — что угодно, первое что в голову взбредёт, лишь бы заглушить осторожный венский рояль. И только когда Бах споткнулся и бесстыдный начальственный баритон возник на его месте — «Мочалин слушает» — стало ясно, что источником противоречия стал мобильный телефон.
Позже, пытаясь восстановить цепочку событий, я закрывал глаза, и включал внутреннее зрение — подобно режиссёру, внимательно исследующему уже снятый, уже пройденный материал, чтобы загодя, в уме, расставить монтажные склейки: вот тут дядя Коля повернулся, маленький серебристого цвета мобильник чудом оказался в его руке, вот ген. директор открыл рот — крупным планом, а вот взлетел кулак одного из телохранителей (того, что сидел справа) … Могу поклястся, что когда нас вышибли за дверь, звучали первые игривые пассажи Scherzo, стало быть, вся вакханалия не могла длиться более восьми минут — ровно столько звучит у Любимова шубертовское Andantino. Почему же мне кажется, что прошло не менее получаса?..
— Мочалин слушает… — заговорил генеральный директор.
Дядя Коля принял у него мобильник (легко, будто подхватил эстафету) и сообщил абоненту, продолжая начатый разговор: «…слушает да ест!» — а следом попытался забить малогабаритный аппарат в просторную мочалинскую глотку.
Лязгнули зубы.
Вот оно: мгновение, когда действие частного лица становится Деянием. Само же лицо в этот миг меняет свой статус, превращаясь из скромного «частного» в подневольное, «юридическое».
Определённо, всё так и было.
Так, да не так: с того мгновения, когда Бах одним взмахом перерубил Шуберта пополам и до того рокового момента, когда известный московский предприниматель распробовал вкус пластика и металла, прошло, должно быть, не более пяти секунд. На старте дядя Коля мирно сидел слева от меня, но уже в точке своего триумфа он возвышался над присутствующими в двадцати-тридцати метрах от пункта отправления. Как он сумел покрыть так скоро это расстояние, какая интуиция безошибочно привела его к источнику возмущения в полутёмном зале — я не знаю. Я пропустил смену декораций и первые полторы минуты присутствовал, как и все прочие — на правах зрителя, ошеломлённо наблюдая за разворачивающейся драмой на фоне тихого — будто перестук речной гальки — фортепьянного вступления.
Когда — пять или шесть часов спустя дядя Коля открыл глаза в реанимационной палате, первые слова его были: «так жаль». Ему было жаль неуслышанного Rondo и оборванного Scherzo. После он заплакал от боли и я выскочил в коридор, чтобы разыскать врача или медсестру. Я подумал тогда, что дядя Коля умрёт от побоев. Его рёбра были сломаны в четырнадцати местах, челюсть пришлось собирать по кускам, до сих пор дядя Коля слегка шепелявит, когда волнуется, и мы говорим: «Мочалин пролетел» и с самым серьёзным видом подмигиваем друг другу…
Первый удар пришёлся в солнечное сплетение.
Зрители вскрикнули.
Мочалин выплюнул мобильник.
Я вскочил с места.
Шуберт поставил птичку, и Любимов, повинуясь, ударил по клавишам — внезапное, как озарение, «форте» на фоне медленно разворачивающейся, раскачивающейся и повторяющейся ритмической фразы.
3.
Далее — безумие, хаос. Кто-то из великих, не упомню кто именно, заметил: мол, Шуберт в этом Andantino позволил себе столько странного и эксцентричного, хватит сполна, чтобы затмить долгие годы прекраснодушной наивности. Вторую часть ля-мажорной сонаты можно без преувеличения назвать естественным и даже простым (ведь хаос — прост!) продолжением первой: выразительность — без экзальтации, ясность отчаяния, нюансы в сфере тихого звучания столь разнообразны и богаты, что кульминация приобретает масштаб стихийного бедствия.
Нас выволокли за дверь, и музыка ни разу не споткнулась. Цирковым, ёрническим пассажам Scherzo мы внимали уже снаружи, удивляясь неожиданным ритмическим совпадениям — мельтешение кулаков, ребристых подошв, выпученные глаза, раззявленные рты, ватные, потусторонние — из-за стены — аккорды венского рояля. На мгновение в моём поле зрения мелькнуло окровавленное лицо дяди Коли — он смеялся.
Месяц или два спустя мой друг признался, что в тот миг увидел изнанку шубертовского Scherzo. «Согласие» — вот нужное слово, — сказал дядя Коля, — здесь Шуберт соглашается с вывихнутым безумным миром. У нас, имеющих уши, имеется странная потребность быть немножко увечными, в гомеопатических дозах — для профилактики. Смерть мы с детства принимаем по капле, чтобы придя потом в своей силе и великолепии, она не застала нас врасплох. Исповедовавшись, отказавшись от себя, мы чувствуем несказанное облегчение.
Это как та плачущая икона, чьи слёзы богомольные старушки запекают в тесто и дают внучкам — для избавления от скорбей и хворобы. Можно ли чужое горе исчерпать и избыть — за счёт своего собственного? Для спасения утопающих нужно ли утонуть самому? Шуберт это делает.

Корни цветов ума уходят глубоко — туда, где тьма настолько темна, что Свет Вышний кажется тенью. Там ожидают своего часа семена сновидений, и каждое вызревает и раскрывается в свой черед, чтобы явить в мир свою собственную букву, которая — скорее звук, чем знак. Спящий же становится чем-то вроде музыкального инструмента — трубы или скрипки. И в той же степени, в какой скрипка или труба не помнят вчерашней музыки, люди не помнят своих снов.Сны сплетаются в пространствах, недоступных людям в часы бодрствования.

Мастер малой прозы? Поэт? Автор притч? Похоже, Дмитрий Дейч - необычный сказочник, возводящий конструкции волшебного в масштабе абзаца, страницы, текста. Новая книга Дмитрия Дейча создает миф, урбанистический и библейский одновременно. Миф о Тель-Авиве, в котором тоже бывает зима.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
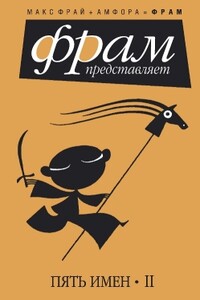
Все, наверное, в детстве так играли: бьешь ладошкой мяч, он отскакивает от земли, а ты снова бьешь, и снова, и снова, и приговариваешь речитативом: "Я знаю пять имен мальчиков: Дима — раз, Саша — два, Алеша — три, Феликс — четыре, Вова — пять!" Если собьешься, не вспомнишь вовремя нужное имя, выбываешь из игры. Впрочем, если по мячу не попадешь, тоже выбываешь. И вот вам пять имен (и фамилий), которые совершенно необходимо знать всякому читателю, кто не хочет стоять в стороне сейчас, когда игра в самом разгаре, аж дух захватывает.

Родословная героя корнями уходит в мир шаманских преданий Южной Америки и Китая, при этом внимательный читатель без труда обнаружит фамильное сходство Гриффита с Лукасом Кортасара, Крабом Шевийяра или Паломаром Кальвино. Интонация вызывает в памяти искрометные диалоги Беккета или язык безумных даосов и чань-буддистов. Само по себе обращение к жанру короткой плотной прозы, которую, если бы не мощный поэтический заряд, можно было бы назвать собранием анекдотов, указывает на знакомство автора с традицией европейского минимализма, представленной сегодня в России переводами Франсиса Понжа, Жан-Мари Сиданера и Жан-Филлипа Туссена.Перевернув страницу, читатель поворачивает заново стеклышко калейдоскопа: миры этой книги неповторимы и бесконечно разнообразны.
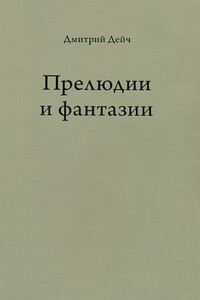
Новая книга Дмитрия Дейча объединяет написанное за последние десять лет. Рассказы, новеллы, притчи, сказки и эссе не исчерпывают ее жанрового разнообразия.«Зиму в Тель-Авиве» можно было бы назвать опытом лаконичного эпоса, а «Записки о пробуждении бодрствующих» — документальным путеводителем по миру сновидений. В цикл «Прелюдии и фантазии» вошли тексты, с трудом поддающиеся жанровой идентификации: объединяет их то, что все они написаны по мотивам музыкальных произведений. Авторский сборник «Игрушки» напоминает роман воспитания, переосмысленный в духе Монти Пайтон, а «Пространство Гриффита» следует традиции короткой прозы Кортасара, Шевийяра и Кальвино.Значительная часть текстов публикуется впервые.

Жизнь – это чудесное ожерелье, а каждая встреча – жемчужина на ней. Мы встречаемся и влюбляемся, мы расстаемся и воссоединяемся, мы разделяем друг с другом радости и горести, наши сердца разбиваются… Красная записная книжка – верная спутница 96-летней Дорис с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ей ее на десятилетие. Эта книжка – ее сокровищница, она хранит память обо всех удивительных встречах в ее жизни. Здесь – ее единственное богатство, ее воспоминания. Но нет ли в ней чего-то такого, что может обогатить и других?..

У Иззи О`Нилл нет родителей, дорогой одежды, денег на колледж… Зато есть любимая бабушка, двое лучших друзей и непревзойденное чувство юмора. Что еще нужно для счастья? Стать сценаристом! Отправляя свою работу на конкурс молодых писателей, Иззи даже не догадывается, что в скором времени одноклассники превратят ее жизнь в плохое шоу из-за откровенных фотографий, которые сначала разлетятся по школе, а потом и по всей стране. Иззи не сдается: юмор выручает и здесь. Но с каждым днем ситуация усугубляется.

В пустыне ветер своим дыханием создает барханы и дюны из песка, которые за год продвигаются на несколько метров. Остановить их может только дождь. Там, где его влага орошает поверхность, начинает пробиваться на свет растительность, замедляя губительное продвижение песка. Человека по жизни ведет судьба, вера и Любовь, толкая его, то сильно, то бережно, в спину, в плечи, в лицо… Остановить этот извилистый путь под силу только времени… Все события в истории повторяются, и у каждой цивилизации есть свой круг жизни, у которого есть свое начало и свой конец.

С тех пор, как автор стихов вышел на демонстрацию против вторжения советских войск в Чехословакию, противопоставив свою совесть титанической громаде тоталитарной системы, утверждая ценности, большие, чем собственная жизнь, ее поэзия приобрела особый статус. Каждая строка поэта обеспечена «золотым запасом» неповторимой судьбы. В своей новой книге, объединившей лучшее из написанного в период с 1956 по 2010-й гг., Наталья Горбаневская, лауреат «Русской Премии» по итогам 2010 года, демонстрирует блестящие образцы русской духовной лирики, ориентированной на два течения времени – земное, повседневное, и большое – небесное, движущееся по вечным законам правды и любви и переходящее в Вечность.

События, описанные в этой книге, произошли на той странной неделе, которую Мэй, жительница небольшого ирландского города, никогда не забудет. Мэй отлично управляется с садовыми растениями, но чувствует себя потерянной, когда ей нужно общаться с новыми людьми. Череда случайностей приводит к тому, что она должна навести порядок в саду, принадлежащем мужчине, которого она никогда не видела, но, изучив инструменты на его участке, уверилась, что он талантливый резчик по дереву. Одновременно она ловит себя на том, что глупо и безоглядно влюбилась в местного почтальона, чьего имени даже не знает, а в городе начинают происходить происшествия, по которым впору снимать детективный сериал.

«Юность разбойника», повесть словацкого писателя Людо Ондрейова, — одно из классических произведений чехословацкой литературы. Повесть, вышедшая около 30 лет назад, до сих пор пользуется неизменной любовью и переведена на многие языки. Маленький герой повести Ергуш Лапин — сын «разбойника», словацкого крестьянина, скрывавшегося в горах и боровшегося против произвола и несправедливости. Чуткий, отзывчивый, очень правдивый мальчик, Ергуш, так же как и его отец, болезненно реагирует на всяческую несправедливость.У Ергуша Лапина впечатлительная поэтическая душа.