Игрушки - [15]
Но разве пилот-испытатель, перечёркивающий небеса, виноват, что лицо его сплюснуло от перегрузки? Солнечный ветер, сдувающий кожу и плоть с костей — вот его стихия, его праздник! А вы хотите, чтобы мы любили с таким же лицом, с каким подписываем чеки.
Есть люди, которые сидят в концертном зале как присяжные в зале суда, этим мне нечего сказать, я не знаю зачем они здесь. Если посмотреть сбоку на ряд этих голов, они покажутся искусственными — как пластмассовые яблоки в вазе. Моя мама держала такие яблоки на столе — пока однажды я зуб не сломал, поддавшись иллюзии. Никогда не понять мне её резона.
Ах, мама, мама! Это ведь она меня с ним познакомила, с дядей Колей. Видишь, говорит, бедняга, сбрендивший меломан, у него трусов три пары, одна мятая рубашка, холодильник пустой, зато все шкафы ломятся от грампластинок. В шифонере, в серванте, на книжных полках, на антресолях, на обеденном столе, в туалете на полочке над унитазом — не поверишь.
Откуда ты всё это знаешь, мама?
Брат Евгения Георгиевича, помнишь, того, с бородой, у которого сенбернар и дача в Крыму, того, что завскладом оргтехники, того, что у Лилии Владимировны на свадьбе отплясывал и громче всех «горько» кричал, так вот, брат его — сантехник. Он в дядиколиной квартире унитаз чинил, и на поллитру взять постеснялся… Зарплата инженера. Ни жены, ни детей, одна музыка. Ветер. А жена его бывшая… ладно, потом расскажу… Здравствуйте, Николай Степанович!
Так я познакомился с дядей Колей. Он опустил своё длинное тряпичное лицо, напоминающее лунный лик Пьеро, и спросил, глядя прямо мне в глаза, люблю ли я музыку. И я почему-то сказал, что люблю. Не то, чтобы не любил… любил, и даже однажды плакал, раз за разом запуская пластинку с песней «Не думай о мгновеньях свысока», но ответил утвердительно потому, что не мог ответить иначе, ведь он посмотрел так серьёзно, так внимательно, как взрослые не умеют. И если бы он спросил люблю ли я хоккей, я бы ответил «да», хотя хоккей никогда не любил и не полюблю.
Я вообще не любил спорт и спортсменов, и уроки физкультуры, и особенно не любил физрука — лысеющего крепыша, майора в отставке, который не упускал случая потешить самолюбие за мой счёт.
Никакого потенциала, — говорил майор, пробуя на ощупь мой бицепс, брезгливо оттягивал нижнюю губу и вклеивал окончательный позорный штампик: Не мужик, тряпка.
Мне было двенадцать лет, когда я узнал, что не мужик, когда познакомился с дядей Колей и стал ходить к нему слушать музыку.
Ну что же, — сказал дядя Коля, — не мужик, и ладно. Мужик — это что-то такое, знаешь ли, косноязычное, бахвалящееся своими достижениями — мнимыми как правило. Трусоватое, когда имеет дело с вышестоящим начальством, и подлое, когда речь идёт о малолетках. Животик у него имеется, у мужика, и лысинка, и на работу он частенько приходит с пивным запашком. И ноги у него воняют.
Я не стал спрашивать откуда он так хорошо знает нашего майора, просто кивнул и забыл об этом разговоре на долгие годы.
— Это он потому так сказал, — шепчут мне справа и слева, — что ему-то самому нечем похвастаться: жена бросила, детей не нажил, мускулатура не развита, походка развинченная, плачет на концертах, как немужик… и если прижмут его где-нибудь в тёмном углу, постоять за себя не сможет…
Вот тут вы сильно ошиблись, дорогие мои. Просто пальцем в небо… Неудивительно, учитывая коллективные представления о задумчивых любителях классической музыки, мол, все как один женоподобны и бесхребетны. Совсем нет. И чтобы не быть голословным, расскажу случай, который произошёл с дядей Колей в прошлом году, в филармонии, на концерте Шуберта.
2
Вернее, то был концерт Алексея Любимова — пианиста в больших круглых очках с фантастическими диоптриями. Такие очки на живом человеке, не пианисте, я видел всего один раз — в детстве. Их носила девочка, в которую я был влюблён. Без них она совершенно ничего не видела, и эта её слепота — с широко раскрытыми глазами — завораживала и приводила меня в состояние оцепенения. Я, конечно, прятал эти очки, чтобы после искать их вдвоём — тут нет, и тут тоже нет — я вёл её за руку, нам было четырнадцать, и мы — рано или поздно — всегда находили искомое, наталкиваясь друг на друга, соприкасаясь пальцами, будто оба были ослепшими, она надевала очки, и я смотрел и удивлялся её глазам, огромным, выпуклым — за фигурными толстыми стёклами. Позже я придирчиво изучал фотографии пианиста Любимова на обложках пластинок фирмы «Erato», и думал: вот, непонятно что было бы, если бы он, Любимов, фотографировался без очков. Красивый, очень русский, я бы сказал — по-чеховски русский, с аккуратной бородкой, и эти очки… — нет, определённо, без них ничего бы не вышло…
Любимов играл позднего Шуберта на молоточковом рояле.
Вообще говоря, дядя Коля не любил старинных роялей и называл их «кастрюльками», слух его был воспитан звучностью Рахманинова, Чайковского и Скрябина. «Пианофорте, тем более — клавикорды или клавесин — нужно слушать в комнате, не в зале», — говаривал он. Но тут и ему пришлось по вкусу звучание инструмента — это был концертный инструмент Конрада Графа с пятью педалями, произведённый в 1826-м году в Вене, и он умел говорить на том языке, который современные рояли (а с ними многие пианисты) позабыли. Шубертовское pianissimo, где «стейнвей» производит холодный белый звук, похожий на свет люминисцентной лампы, на струнах молоточкового рояля поднимается и дрожит подобно язычку свечи: светит и греет. Когда прозвучали первые такты Andantino ля-мажорной сонаты, дядя Коля прикрыл глаза и врос в кресло. Это означало, что он «отлетел» и больше не знает ни где находится его тело, ни кто он такой, ни почему здесь оказался.

Корни цветов ума уходят глубоко — туда, где тьма настолько темна, что Свет Вышний кажется тенью. Там ожидают своего часа семена сновидений, и каждое вызревает и раскрывается в свой черед, чтобы явить в мир свою собственную букву, которая — скорее звук, чем знак. Спящий же становится чем-то вроде музыкального инструмента — трубы или скрипки. И в той же степени, в какой скрипка или труба не помнят вчерашней музыки, люди не помнят своих снов.Сны сплетаются в пространствах, недоступных людям в часы бодрствования.

Мастер малой прозы? Поэт? Автор притч? Похоже, Дмитрий Дейч - необычный сказочник, возводящий конструкции волшебного в масштабе абзаца, страницы, текста. Новая книга Дмитрия Дейча создает миф, урбанистический и библейский одновременно. Миф о Тель-Авиве, в котором тоже бывает зима.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
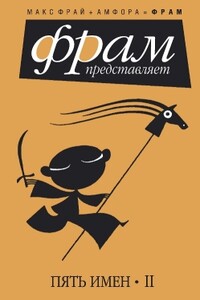
Все, наверное, в детстве так играли: бьешь ладошкой мяч, он отскакивает от земли, а ты снова бьешь, и снова, и снова, и приговариваешь речитативом: "Я знаю пять имен мальчиков: Дима — раз, Саша — два, Алеша — три, Феликс — четыре, Вова — пять!" Если собьешься, не вспомнишь вовремя нужное имя, выбываешь из игры. Впрочем, если по мячу не попадешь, тоже выбываешь. И вот вам пять имен (и фамилий), которые совершенно необходимо знать всякому читателю, кто не хочет стоять в стороне сейчас, когда игра в самом разгаре, аж дух захватывает.

Родословная героя корнями уходит в мир шаманских преданий Южной Америки и Китая, при этом внимательный читатель без труда обнаружит фамильное сходство Гриффита с Лукасом Кортасара, Крабом Шевийяра или Паломаром Кальвино. Интонация вызывает в памяти искрометные диалоги Беккета или язык безумных даосов и чань-буддистов. Само по себе обращение к жанру короткой плотной прозы, которую, если бы не мощный поэтический заряд, можно было бы назвать собранием анекдотов, указывает на знакомство автора с традицией европейского минимализма, представленной сегодня в России переводами Франсиса Понжа, Жан-Мари Сиданера и Жан-Филлипа Туссена.Перевернув страницу, читатель поворачивает заново стеклышко калейдоскопа: миры этой книги неповторимы и бесконечно разнообразны.
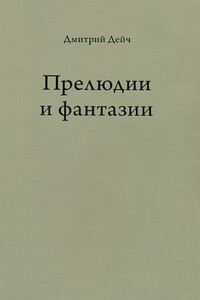
Новая книга Дмитрия Дейча объединяет написанное за последние десять лет. Рассказы, новеллы, притчи, сказки и эссе не исчерпывают ее жанрового разнообразия.«Зиму в Тель-Авиве» можно было бы назвать опытом лаконичного эпоса, а «Записки о пробуждении бодрствующих» — документальным путеводителем по миру сновидений. В цикл «Прелюдии и фантазии» вошли тексты, с трудом поддающиеся жанровой идентификации: объединяет их то, что все они написаны по мотивам музыкальных произведений. Авторский сборник «Игрушки» напоминает роман воспитания, переосмысленный в духе Монти Пайтон, а «Пространство Гриффита» следует традиции короткой прозы Кортасара, Шевийяра и Кальвино.Значительная часть текстов публикуется впервые.

Книга Тимура Бикбулатова «Opus marginum» содержит тексты, дефинируемые как «метафорический нарратив». «Все, что натекстовано в этой сумбурной брошюрке, писалось кусками, рывками, без помарок и обдумывания. На пресс-конференциях в правительстве и научных библиотеках, в алкогольных притонах и наркоклиниках, на художественных вернисажах и в ночных вагонах электричек. Это не сборник и не альбом, это стенограмма стенаний без шумоподавления и корректуры. Чтобы было, чтобы не забыть, не потерять…».

В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было ничего интересного, пока он не встретил в школьной столовой новенькую. Девчонка оказалась со странностями. Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, играет на гавайской гитаре, смеется, когда никто не шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке ручную крысу. Лео оказался в безвыходной ситуации – эта необычная девчонка перевернет с ног на голову его ничем не примечательную жизнь и создаст кучу проблем. Конечно же, он не собирался с ней дружить.

Жизнь – это чудесное ожерелье, а каждая встреча – жемчужина на ней. Мы встречаемся и влюбляемся, мы расстаемся и воссоединяемся, мы разделяем друг с другом радости и горести, наши сердца разбиваются… Красная записная книжка – верная спутница 96-летней Дорис с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ей ее на десятилетие. Эта книжка – ее сокровищница, она хранит память обо всех удивительных встречах в ее жизни. Здесь – ее единственное богатство, ее воспоминания. Но нет ли в ней чего-то такого, что может обогатить и других?..

У Иззи О`Нилл нет родителей, дорогой одежды, денег на колледж… Зато есть любимая бабушка, двое лучших друзей и непревзойденное чувство юмора. Что еще нужно для счастья? Стать сценаристом! Отправляя свою работу на конкурс молодых писателей, Иззи даже не догадывается, что в скором времени одноклассники превратят ее жизнь в плохое шоу из-за откровенных фотографий, которые сначала разлетятся по школе, а потом и по всей стране. Иззи не сдается: юмор выручает и здесь. Но с каждым днем ситуация усугубляется.

В пустыне ветер своим дыханием создает барханы и дюны из песка, которые за год продвигаются на несколько метров. Остановить их может только дождь. Там, где его влага орошает поверхность, начинает пробиваться на свет растительность, замедляя губительное продвижение песка. Человека по жизни ведет судьба, вера и Любовь, толкая его, то сильно, то бережно, в спину, в плечи, в лицо… Остановить этот извилистый путь под силу только времени… Все события в истории повторяются, и у каждой цивилизации есть свой круг жизни, у которого есть свое начало и свой конец.

С тех пор, как автор стихов вышел на демонстрацию против вторжения советских войск в Чехословакию, противопоставив свою совесть титанической громаде тоталитарной системы, утверждая ценности, большие, чем собственная жизнь, ее поэзия приобрела особый статус. Каждая строка поэта обеспечена «золотым запасом» неповторимой судьбы. В своей новой книге, объединившей лучшее из написанного в период с 1956 по 2010-й гг., Наталья Горбаневская, лауреат «Русской Премии» по итогам 2010 года, демонстрирует блестящие образцы русской духовной лирики, ориентированной на два течения времени – земное, повседневное, и большое – небесное, движущееся по вечным законам правды и любви и переходящее в Вечность.