Идиллии - [3]
В раздвоении между жаждой к скитаниям и мечтами о счастливой жизни под собственной крышей кроется диалектическое противоречие, определяющее судьбы героев «Идиллий». Мечтатель-неудачник отправляется в чужие земли, все преодолевает, обретает свободу, но оказывается бессильным перед любовью. Любовь притягивает к дому, семейному очагу, размеренной, устоявшейся жизни, а герой уже отвык так жить. Тодоров не видит выхода из этого противоречия, он и сам мучительно его переживает. Длительная, кропотливая работа над идиллией «Бессчастный» красноречиво свидетельствует о внутренней неудовлетворенности и настойчивых поисках художника. В идиллиях «Медвежатник», «Змеиные чары» и других говорится о преображающей силе любви. Даже когда любовь неразделенная, герой не утрачивает нравственной чистоты и возвышенности чувств. Писатель остается верен афоризму: «В любви виноватых нет!», и поэтому не ищет оправдания или возмездия — его мечтатели-несчастливцы несут свою любовь, свое безмолвное страдание через всю жизнь.
Хоть и невелик объем творческого наследия П. Ю. Тодорова, сегодня трудно представить болгарскую литературу без его поэтического мира, напоенного ароматами родной земли и населенного добрыми, одухотворенными героями.
П. Ю. Тодоров внимательно следил за развитием мировой литературы в лице таких ее замечательных представителей, как Л. Толстой, Г. Ибсен, М. Горький и другие. С Горьким он переписывался и встречался на Капри. Он ценил творчество украинских писателей Василя Стефаника, Ивана Франко, Ольги Кобылянской, с которыми был знаком лично, и разделял их эстетические взгляды.
В своем творчестве Петко Ю. Тодоров выразил извечное стремление человека к гармонии, совершенству и справедливости. Именно поэтому так привлекательны его герои, отдаленные от нас почти на целое столетие, но близкие нам своим непосредственным ощущением правды, добра и красоты.
Любен Георгиев
ИДИЛЛИИ
Вещуньи
Едва бойкая горечавка наклонилась к душистому скромнику ландышу, а морозник подмигнул притаившейся за терном фиалке, как из-за скалы показал свой рог злой насмешник месяц. Вся лесная круча застыла в страхе, пока из пещеры не вышла старая колдунья, чтобы сквозь узорчатый плат прочитать его сроки. Пришел черед и поспешившему месяцу испугаться: он побледнел, попятился, словно захотел вернуться восвояси. Тогда вперед выступили звезды — стыдливые, они перемигиваются, улыбаются друг дружке, как юные невесты. Пока они дрожат, мерцают, — смотри! — одна мигнет раз-другой и полетит, провалится сквозь землю. Увидит ее пастух иль путник в пути-дороге — перекрестится: ведь когда срывается звезда, отлетает на тот свет чья-то грешная душа.
Лучше всего вещуньи предсказывают по ним, по звездам. В тот вечер они собирали цветы и травы в глухих, недоступных дебрях, когда одна показала костлявым пальцем: на краю неба задрожала новая звездочка — родился младенец. Три вещуньи тотчас пустились искать его люльку — каждая его покачает и предскажет ему судьбу. Пронеслись они над ровными долинами, над рекой ринулись вниз, — там среди прохладных ущелий приютилось село. Как тихо все дремлет вокруг! Наверху, на холме, в тенистом сумраке сливовых деревьев белеет опрятный домик и дым белым столбом поднимается из трубы. Обновился сегодня старый род, и седовласый свекор заколол на праздник барана для всех родных и домочадцев. Посреди горницы висит люлька, а в ней — первенец, первым сном спящий.
— Дай ему, боже, — остановилась, запыхавшись, над люлькой первая вещунья, — ум и искусность. Дай ему широкую душу — пусть вместит он в нее целый мир божий. Пусть умом обнимет и небо и землю от края до края.
— Дай, — прервала вторая, — дай крепкие крылья его духу — чтобы в прошлое мог возвращаться и в грядущее мог залетать — надо всем подняться, владеть и рядить…
— Пусть так! — оборвала их третья. — Одного он только не сможет: из себя ему вон не выйти. В своей коже он мучиться будет. В небесах будет чувствовать землю. И если даже загниет его кожа, и струпья ее покроют — в ней ему оставаться и опять гнаться за тем, чего не достигнет.
Словно почувствовав это во сне, младенец громко заплакал. Старая бабушка вышла из-за праздничного стола, перекрестила его и опять вернулась к гостям занимать их беседой. А вещуний уж нет — они ускользнули через трубу и снова летят сквозь ясную ночь.
Льет месяц серебряный свет, задумались вкруг дома деревья. Но вот от реки подул ветерок, и низко склонила перистые листья малина, за ней сквозь сплетенные ветви блеснуло золотое яблоко, — и в безмолвии все опять притаилось и задремало.
Радость
Три года в сладких мечтах томится тонкая лоза, три года как завладел ее сердцем дуб и она потеряла покой. Красавец дуб — могучий, развесистый, — взглянешь на него — глаз не отведешь. Зимой и летом одет листвою: каждой весной, не успеет обветшать прошлогодний наряд, а уж он опять в новый убрался. И тогда во всем предгорье не найти ему равного.
Догадался дуб, что лоза по нему сохнет, и хоть был высок — еще выше поднялся. Вершиной будто хочет небо мерить, а ветви с утра до вечера все к ней склоняет, и лишь только вдали, за горами, солнце начнет плавиться в вечерней заре, заводит мерную песню. Вмиг затрепещет от слов его лоза, зашелестит и она темными листьями, вздрогнет, прислушается и опять шепчет ответные речи. «Они друг для друга рождены», — вздыхают цветы и курчавые кустарники, любуясь ими. Ведь только радость да ласки остаются от этой жизни! Но есть старая пословица: «Не спрашивай того, кто видал, а того, кто горе знал»… Посмотри, как покачивает макушкой стройная сосна, как молчит в стороне, нахмурившись, явор, а там, в сырой чащобе, старая осина с побелевшей корой — дует ветер, нет ли — все болтает да пророчит недоброе, как первая сплетница в сельской слободе.
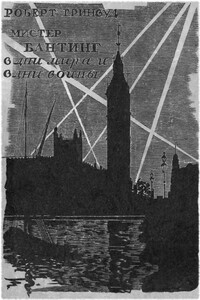
«В романах "Мистер Бантинг" (1940) и "Мистер Бантинг в дни войны" (1941), объединенных под общим названием "Мистер Бантинг в дни мира и войны", английский патриотизм воплощен в образе недалекого обывателя, чем затушевывается вопрос о целях и задачах Великобритании во 2-й мировой войне.»В книге представлено жизнеописание средней английской семьи в период незадолго до Второй мировой войны и в начале войны.
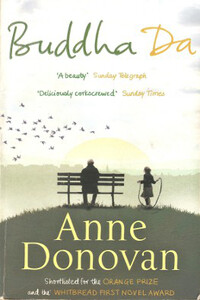
Другие переводы Ольги Палны с разных языков можно найти на страничке www.olgapalna.com.Эта книга издавалась в 2005 году (главы "Джимми" в переводе ОП), в текущей версии (все главы в переводе ОП) эта книжка ранее не издавалась.И далее, видимо, издана не будет ...To Colem, with love.
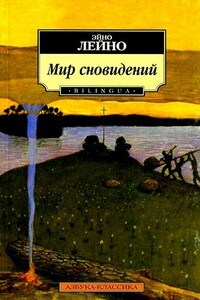
В истории финской литературы XX века за Эйно Лейно (Эйно Печальным) прочно закрепилась слава первого поэта. Однако творчество Лейно вышло за пределы одной страны, перестав быть только национальным достоянием. Литературное наследие «великого художника слова», как называл Лейно Максим Горький, в значительной мере обогатило европейскую духовную культуру. И хотя со дня рождения Эйно Лейно минуло почти 130 лет, лучшие его стихотворения по-прежнему живут, и финский язык звучит в них прекрасной мелодией. Настоящее издание впервые знакомит читателей с творчеством финского писателя в столь полном объеме, в книгу включены как его поэтические, так и прозаические произведения.
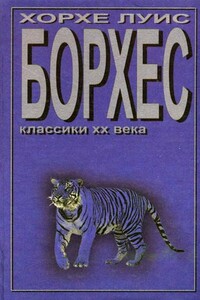
Иренео Фунес помнил все. Обретя эту способность в 19 лет, благодаря серьезной травме, приведшей к параличу, он мог воссоздать в памяти любой прожитый им день. Мир Фунеса был невыносимо четким…
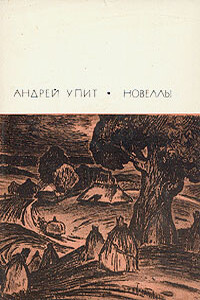
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
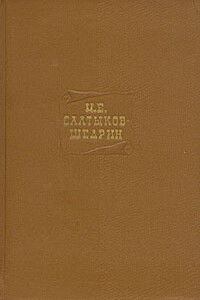
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.«Благонамеренные речи» формировались поначалу как публицистический, журнальный цикл. Этим объясняется как динамичность, оперативность отклика на те глубинные сдвиги и изменения, которые имели место в российской действительности конца 60-х — середины 70-х годов, так и широта жизненных наблюдений.