Идеально другие. Художники о шестидесятых - [3]
С Яковлевым я познакомился через Айги, но был еще Саша Васильев, который спился. Он жил на Маросейке, и его мать была замужем за Георгием Васильевым, автором «Чапаева». У нее я снимал комнату возле синагоги на улице Архипова. Туда Яковлев мне приносил свои работы. Это были цветы и люди. Яковлев был очень плодовит — делал по сто работ в день и приносил их мне. Я ему платил каждый месяц и отбирал то, что понравилось. Он приходил и раскладывал у меня на полу «пасьянс», как он говорил, из картин. Я был очень увлечен Яковлевым и устроил в 1957 году у себя дома его выставку. Пригласил Костаки, но он не очень обратил внимание, так как был увлечен Зверевым. Костаки вначале Яковлева не признал, из-за конкуренции Звереву. В мое время Яковлевым никто не интересовался, а Зверев «пошел», и на него клюнули. Вскоре у меня оказалась большая коллекция Яковлева. Сначала люди просто смотрели, потом его стали покупать. Яковлев с самого начала был чокнутый, но у него было чувство юмора. У него была тяжелая наследственность — единственный случай слепого художника. Но его дед был известный художник, Михаил Яковлев. Он знал, кем был его дед. Яковлев — человек без возраста. У него была мания преследования. Не знаю, кто сунул его в психушку — семья или кто? Пару раз я ходил его навещать, и меня вызвал врач. Он спросил: «Яковлев — талантливый человек?» Тогда была мода на нейролептики, и я посоветовал врачу не применять химию — пусть лучше рисует. Врач оказался понятливым. Что с ним было в последние годы, я не знаю, но знает Айги.
Айги был моим близким другом, другие поэты скорее знакомыми. Мы были очень близки, дружили, вместе путешествовали. Он все время у меня бывал. Я для Айги делал подстрочники современной французской поэзии. Он сделал сборник, от Средневековья до современности, на чувашском языке. Я показал его журналисту-французу, и он получил премию от Французской академии. Так началась его известность на Западе. Айги стал «разъезжантом» и немного зазнался. У Айги очень много детей и большое количество жен. С ним я познакомился на его первой свадьбе, после которой он спрятался в шкаф и всю ночь читал стихи Пастернака. На второй свадьбе стояло ведро винегрета, и каждый принес по бутылке водки. Тогда он жил в деревне под Москвой. Кто-то бегал с ножом, но Айги был в восторге. Безработного Айги жена Рихтера устроила научным работником в Музей Маяковского, где он сделал первую выставку Малевича в Москве — не только из собрания Харджиева. Харджиев многое сохранил. Не знаю, общался ли он с Костаки. Он был скрытный, молчаливый человек, не очень-то пускал к себе, боялся. Он дружил с Айги, поверил в него. Был скандал, когда он эмигрировал, но не верю, что он был непорядочен.
Позже пришло, что мы восстанавливали искусство 20-х годов. Еще студентом я застал последних футуристов, кое-какие следы. Художница Софья Престель была из окружения
Малевича и Поповой. Ей было уже под 80, и она жила почти напротив американского посольства. Сестры Синяковы поклонялись художнику Бурлюку, в одну из них был влюблен Хлебников, другая вышла замуж за Асеева. Моим кумиром был Хлебников, я зачитывался им, он нравился мне как личность. На Кузнецком Мосту я купил за гроши собрание его сочинений, которое никого не интересовало. Позже оно стоило диких денег. В связи с Хлебниковым я навестил Крученых и Митурича. Крученых, сам прекрасный поэт, выживал тем, что перепродавал книжки. Когда я был студентом, при Сталине, у меня была черно-белая книжка Ренуара и мне предложили поменяться на рисунки Шагала — это еще не ценилось. Костаки интересовался книжками 20-х годов. Я ему подарил книжку одного архитектора-утописта. Знал Мельникова, был у него дома в арбатском переулке, но дом был по-мещански старомосковский — стояли самовары. Он жаловался, что Ле Корбюзье украл у него все его идеи.
Через Олега Прокофьева, который учился у Фалька, я попал в Лианозово. Лианозовцы были дальше от меня и тогда себя еще не нашли. Старик Кропивницкий был особый случай — он продолжал традиции, жил на отшибе. Он мне импонировал как человек — сумел противостоять всему. От него исходило личное обаяние, и он обладал авторитетом. Он особо никого не звал, но к нему тянулись. Кропивницкий жил в одной комнате в деревне и был героем. Всю жизнь живя на отшибе, он продолжал делать что-то свое, был свободным человеком. О музыке речь никогда не заходила, он ею не интересовался, но писал стихи. Барачная лирика возникла вокруг него. В 58-м году я сделал выставку Евгения Кропивницкого. Есть фото выставки. Развешивали Рабин и Холин. Приходили люди, но отзывы писать боялись, только смотрели. Мало кто купил. Я сам купил картины у Кропивницкого, на вернисаж пригласил Костаки, но ему не понравилось. У меня висела его картина с девушкой на урбанистическом фоне. Это было барачное искусство. Из-за выставки у меня были неприятности. Собственно, выставка была одна, а так у меня на квартире постоянно висели работы Плавинского, Зверева, Яковлева, Рабина, Прокофьева, Краснопевцева, Кропивницкого. Что-то я покупал, что-то давали на время, что-то дарил, что-то продавал. Вообще, живопись — самый близкий мне вид искусства.

Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.
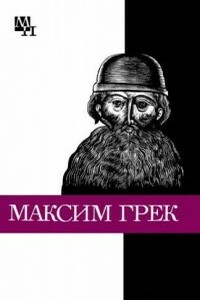
Книга посвящена одному из видных деятелей отечественной и европейской культуры XVI в… оставившему обширное письменное наследие, мало изученное в философском отношении. На примере философских представлений Максима Грека автор знакомит со своеобразием древнерусского философского знания в целом.В приложении даны отрывки из сочинении Максима Грека.

Герой книги — выдающийся полярник Руал Амундсен. Он единственный побывал на обоих полюсах Земли и совершил кругосветное плавание в водах Ледовитого океана. Прошел Северным морским путем вдоль берегов Евразии и первым одолел Северо-Западный проход у побережья Северной Америки. Блестящий организатор, на пути к Южному полюсу безошибочно выбрал собачьи упряжки и уложился в сжатые сроки, пока трудности не ослабили участников похода. Фигура исторического масштаба, опыт которого используют полярники до сего дня.Однако на вершине жизни, достигнув поставленных целей, герой ощутил непонимание и испытал одиночество.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.

Первое издание книги «Расставание с Нарциссом» замечательного критика, писателя, эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006) вышло в 1997 году и было удостоено сразу двух премий («Малый Букер» и «Антибукер»). С тех пор прошло почти полтора десятилетия, но книга нисколько не утратила своей актуальности и продолжает поражать не только меткостью своих наблюдений и умозаключений, но также интеллектуальным напором и глубиной, не говоря уже об уникальности авторского письма, подчас избыточно метафорического и вместе с тем обладающего особой поэтической магией, редчайшим сплавом изощренной аналитики и художественности.
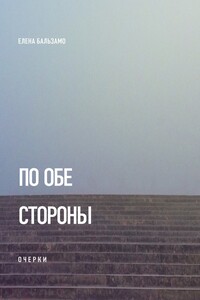
Филолог-скандинавист, литературный критик и переводчик, Елена Бальзамо родилась и выросла в Москве в советское время, но давно уже живет и работает во Франции. И вот с «той» стороны, из «этого» времени, она оглядывается на «ту» эпоху, на собственное детство, учебу, взросление – и постепенное отторжение от системы, завершившееся переездом в другой, «по-ту-сторонний» мир. Отстранение, отчуждение парадоксальным образом позволяет автору приблизиться к прошлому, понять и воскресить минувшую эпоху, пропустив ее сквозь призму воспоминаний, семейных преданий и писем.

Вера Аркадьевна Мильчина – ведущий научный сотрудник Института Высших гуманитарных исследований РГГУ и Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, автор семи книг и трех сотен научных статей, переводчик и комментатор французских писателей первой половины XIX века. Одним словом, казалось бы, человек солидный. Однако в новой книге она отходит от привычного амплуа и вы ступает в неожиданном жанре, для которого придумала специальное название – мемуаразмы. Мемуаразмы – это не обстоятельный серьезный рассказ о собственной жизни от рождения до зрелости и/или старости.
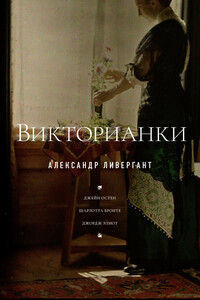
Английская литература XIX века была уникальной средой, в которой появилась целая плеяда талантливых писательниц и поэтесс. Несмотря на то, что в литературе, как и в обществе, царили патриархальные порядки, творчество сестер Бронте, Джейн Остен и других авторов-женщин сумело найти путь к читателю и подготовить его для будущего феминистского поворота в литературе модернизма. Лицами этой эпохи стали талантливые, просвещенные и сильные ее представительницы, которым и посвящена книга литературоведа А. Ливерганта.