Холмы, освещенные солнцем - [55]
А тут еще плюс ко всему (или, может быть, минус? а вдруг да как минус?!) представьте себе, что не одна и не две в разной степени уважаемые и любимые родственницы, когда-то селившиеся в окрестностях волшебной стены, в свое время живейше принимали участие в сценических действах, разворачивавшихся на специальных подмостках уже по ту ее сторону.
Представьте себе весь тот сверкающий бисером и разукрашенный громадными перьями поток воспоминаний, преданий… Представьте тот яркий и единственный в своем роде цветок на бедре знаменитой танцовщицы (как крепко, должно быть, засело в вашу детскую голову то бедро прелестной, знаменитой танцовщицы с фантастическим и единственным в своем роде цветком!).
И представьте себе, как потом, уже наяву (или почти в сновидении?), среди различных эффектов, там, в глубине высочайших объемов, в клубах артистической пыли закулисных ветров и бурь и сладостной музыки, — о, конечно же, и сладостной музыки! — по ту сторону все той же стены, порхали красавицы спящие, бодрствующие, принцессы и принцы, колдуны и волшебницы и прочие сказочные существа и чудовища, а потом, как снаружи, у стен того здания, вы встречали порой живых, но уже современных этих красавиц, этих принцесс с характерной походкой, этих искусственно и деревянно ступающих недосягаемых жриц, вышедших только что вздохнуть и взглянуть на белый естественный свет после всех тех вконец обескровливающих, изнуряющих ритмов и ритуалов.
И, представив все это, в конце концов вы поймете, что глухая стена театральных задов, отражающаяся в тихой протоке, запечатлела в себе не только родственные аспекты туманностей чьего-то там детства; вы также поймете, с чего бы мог вдруг привидеться тот странный на первый взгляд сон, где под куполом неба, под эгидой ветра с залива, под эгидой темного и студеного моря, но в пределах пространства, ограниченного театральными стенами, кто-то с замиранием сердца топтался на каких-то невообразимых ходулях (или, возможно, и не топтался вовсе, а совершал головокружительные обороты-кульбиты на неизвестно как повисших трапециях?); тот сон, в котором кто-то там манипулировал в высоте, под куполом неба, на этих самых ходулях-трапециях, тогда как снизу, из-за каких-то там накрахмаленных столиков, кое-как врассыпную и криво расставленных среди рухнувших кирпичей и обломков, на него взирали, иные повскакав даже с места, маленькие — в глубине-то огороженного стенами объема — маленькие такие и сокращенные в ракурсах люди.
Знаете ли, встречается порой на дряхлом лице чьей-либо родимой старушки, бабушки или тети, на щеке ихней или на верхней губе такое выдающееся в своем роде и на первый взгляд совершенно никчемное, курьезное даже родимое пятнышко — бугорок с волоском зачастую или с двумя волосками. И вот, если это добрая, любимая вами старушка, а подобные пятнышки чаще всего бывают принадлежностью добрых старушек, то вспомните или представьте себе, как, будучи дитяткой, вы бросались в раскрытые объятия такой родимой старушки, обхватывая своими ручонками (и у вас ведь были когда-то ручонки) ее дряблую родимую шею, и прижимаясь своей нежной щечкой (и у вас ведь были когда-то нежные щечки) к ее морщинистой и обвислой щеке, и торопливо целуя ее именно в это курьезное, никому-то ненужное, но невозможно-таки родимое пятнышко с волоском, забавно и добро торчащим у нее над верхней губой или на подбородке.
(О подобном родимом пятнышке я упомянул здесь к тому — и только к тому! — дабы сравнить с ним вдруг и непомерно разросшиеся рассуждения или воспоминания мои, связанные с глухими стенами жилых и общественных зданий. Пусть же эти вполне недостойные, конечно же, такого сравнения рассуждения или воспоминания обернутся все же чем-то вроде подобного родимого пятнышка на и так-то далеко не классическом лице моей рукописи.)
Итак, хотя теперь уже поздно стенать по этому поводу, — пятнышко-то, бугорок-то определились уже, воспоминания и рассуждения уже состоялись! — я здесь чистосердечно признаюсь, что, по-видимому, все мое путешествие от стены и к стене и даже показавшаяся мне поначалу необходимой глухая стена театральных задов почти совершенно излишни, почти совершенно не имеют значения, а поистине имеет значение обыкновенный старинный бельевой шкаф, никогда на моей памяти и рядом-то не стоявший с глухой или даже с внутренней капитальной стеной, а ныне, возможно, и вообще-то давным-давно переехавший в другое и, возможно, далеко отстоящее от моего дома жилище.
Бывают, знаете ли, в развитии вашего существа — в развитии или постепенном выявлении? — некоторые узловые, кардинальные моменты или целые периоды, когда в вас что-то неотвратимо нарастает, клубится в вашей душе, в вашем сердце и разуме, клубится, колышется, словно дым над большим пожарищем, точнее, словно как пар над бурно кипящей жидкостью, — словно тонкий пар, приобретая зыбкие, незаметно меняющиеся формы, перетекающие друг в друга, но в то же время как единый поток, неумолимо стремящийся все далее и далее, чтобы в конце концов выклубиться в какую-то последнюю форму.
И еще бывают такие моменты, когда в этом клубящемся зыбко, неясно, когда в этом стремящемся к своему последнему воплощению возникают вдруг образы отдельных предметов — одного или двух — и непререкаемо утверждаются там как какие-то вехи или кардинальные знаки.
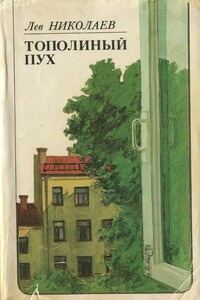
Очень просты эти понятия — честность, порядочность, доброта. Но далеко не проста и не пряма дорога к ним. Сереже Тимофееву, герою повести Л. Николаева, придется преодолеть немало ошибок, заблуждений, срывов, прежде чем честность, и порядочность, и доброта станут чертами его характера. В повести воссоздаются точная, увиденная глазами московского мальчишки атмосфера, быт послевоенной столицы.

Эта книга о воинах-афганцах. О тех из них, которые домой вернулись инвалидами. О непростых, порой трагических судьбах.

В сборник вошли две повести и рассказы. Приключения, детективы, фантастика, сказки — всё это стало для автора не просто жанрами литературы. У него такая судьба, такая жизнь, в которой трудно отделить правду от выдумки. Детство, проведённое в военных городках, «чемоданная жизнь» с её постоянными переездами с тёплой Украины на Чукотку, в Сибирь и снова армия, студенчество с летними экспедициями в тайгу, хождения по монастырям и удовольствие от занятия единоборствами, аспирантура и журналистика — сформировали его характер и стали источниками для его произведений.
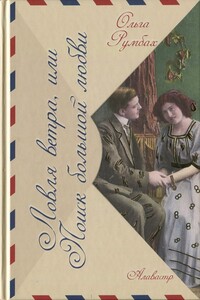
Книга «Ловля ветра, или Поиск большой любви» состоит из рассказов и коротких эссе. Все они о современниках, людях, которые встречаются нам каждый день — соседях, сослуживцах, попутчиках. Объединяет их то, что автор назвала «поиском большой любви» — это огромное желание быть счастливыми, любимыми, напоенными светом и радостью, как в ранней юности. Одних эти поиски уводят с пути истинного, а других к крепкой вере во Христа, приводят в храм. Но и здесь все непросто, ведь это только начало пути, но очевидно, что именно эта тернистая дорога как раз и ведет к искомой каждым большой любви. О трудностях на этом пути, о том, что мешает обрести радость — верный залог правильного развития христианина, его возрастания в вере — эта книга.

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.

Молодой, но уже широко известный у себя на родине и за рубежом писатель, биолог по образованию, ставит в своих произведениях проблемы взаимоотношений человека с окружающим его миром природы и людей, рассказывает о судьбах научной интеллигенции в Нидерландах.