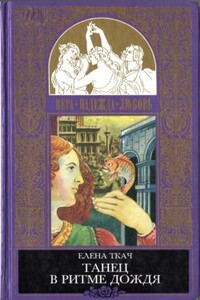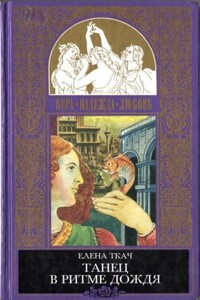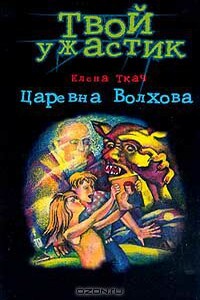— Наш сын написал мне! Лара, почему не сказала? — только-то и спросил… потом слушал её рассказ, сидя на кухне, и мандарины, которые он привез, бесшумно выкатывались из накренившейся сумки и разбегались по вытертому линолеуму…
А потом Ашот дни и ночи проводил возле больничной койки. Его сменяла Лара, осунувшаяся, поседевшая… и в то же время другая, новая. Точно какая-то невидимая пружинка в ней распрямилась! Она верила, что сын выздоровеет, иначе и быть не могло! Дуремара она забрала к себе — пусть Саша порадуется, когда вернется домой… Ашот приехал дня на два, а остался… он не думал: надолго ли, навсегда — жизнь покажет. Происшедшее с сыном словно раскрыло ему глаза. Как он жил, чем? Плыл по жизни как пустой бумажный кораблик — без семьи, без детей… А он был так нужен здесь! Лара не виновата — страх быть отвергнутой помешал ей сказать ему, что ждет ребенка… Точно так же, как он боялся брака, ответственности… Страх оказался сильнее их, сильнее всего — и вот плоды этой победы: разбитые, искалеченные жизни! Но теперь эти двое — крепко побитые, потертые, постаревшие — смогли победить свои страхи. И многое поняли. Что ж, лучше поздно, чем никогда! Каждое воскресенье они ездили в храм к отцу Валентину, часто к ним присоединялись Ольга и Борис Ефимович. Все вместе они горячо, всем сердцем молились, чтобы Сашка выкарабкался, вернулся… И старались не думать, что исход может быть совсем иным… Ведь у него была тяжелейшая черепно-мозговая травма, врачи сделали две операции и считали, что обе прошли успешно. Оставалось ждать, верить, любить, надеяться… И они делали это!
И вот… Саня пошире раскрыл глаза… слабая улыбка тронула его губы… Он все вспомнил. Он узнал!
— О-тец… — шелест лепестков под ветром, кажется, был бы слышней, но Ашот услышал.
— Сашка, сынок! Сейчас мама придет! Как она обрадуется! Молодец, какой же ты молодец, я знал, я верил в тебя…
Май проплывал за окном в теплом мареве цвета и света. Жизнь возвращалась к больному парню. И хотя тело его ещё было слабым и немощным и позабыло, что мышцы умеют сокращаться, а ноги — ходить, но душа… она сразу стала набирать силу. Душа оживала первой!
* * *
В середине осени — в октябре, когда ветер ворожил опавшими листьями, Саня, вытянувшийся, бледный, худой, стоял перед оркестровой ямой Большого театра с большущим букетом в руках. Только что упал занавес и зал потонул в аплодисментах — спектакль закончен, — блестящий спектакль! — «Щелкунчик» с юной восходящей звездой в главной роли…
Вот она, Маргарита Березина, только что вызвавшая слезы на глазах не у одних лишь сентиментальных дам, но у тех, кто видал самых великих звезд этой сцены, — балетоманов, не пропускавших ни одну премьеру… Стоит, счастливая, кланяется!
«Как хороша!» — слышится со всех сторон.
«Кто это там, у рампы? — Марго заметила стройного худощавого юношу, который стоял, не сводя с неё глаз, и прижимал к груди букет золотых хризантем… — Странный какой, он будто о цветах позабыл! Ба, да у него слезы… их он тоже не замечает — текут по щекам! Надо же… а взгляд-то какой! Да, кто ж это? Интересно…»
Его черты показались ей странно знакомыми, где-то она его видела… может, во сне?