Характерные черты французской аграрной истории - [4]
Узость этого определения бросается в глаза. Именно она и мешает автору правильно поставить вопрос о причинах эволюции сеньории. Вместе с тем присущая ему острая наблюдательность и прекрасное знание источников позволяют сделать ряд правильных частных выводов.
Корни сеньории Блок ищет в далеком прошлом, еще в галльскую эпоху, когда галльская родовая знать облагала натуральными повинностями своих соплеменников. Развитие крупного землевладения проходило в галльский, римский и франкский периоды, несмотря на все перипетии и конфискации, но лишь в эпоху Каролингов сеньория, объединив под своей властью большинство мелких аллодов, получила наибольшее распространение. Таким образом, для Блока не существует коренного переворота, внесенного германской маркой в аграрный строй Галлии, хотя он правильно отмечает некоторые новые черты во франкском обществе. Так, он указывает на роль традиции в установлении фиксированных повинностей и считает, что эта традиция (кутюма сеньории), распространяясь уже не только на колонов, но на все население страны, в том числе и на рабов, укрепила наследственность рабских держаний. Он рисует в общих чертах картину утраты мелкими аллодистами своих земель, но не дает точного определения аллода. Лишь мельком проскальзывает у него мысль, что аллодист, помимо обязанностей по отношению к королю и его представителям, был подчинен общинным порядкам, являвшимся «основой аграрной жизни».
Дав общую картину хозяйственных распорядков сеньории в VIII–IX веках с характерным для этого периода господством барщины, Блок переходит к следующему этапу в развитии сеньории с конца XII — начала XIII веков. Он констатирует для этого времени отсутствие аллодов, полный иммунитет сеньоров, господство серважа и наличие новых повинностей (баналитеты, десятина, талья), которые, по его мнению, возникли в результате усиления судебной и политической власти сеньоров. Это верное соображение Блок сопровождает кратким, но весьма интересным очерком истории тальи. Он указывает, что взимание произвольной тальи нередко бывало причиной восстаний и что ее фиксация в течение XIII века явилась результатом непрерывных усилий сельских коммун. В изложении Блока история сеньориальной тальи в XII–XIII веках предстает как первый этап развития денежной ренты, но сам автор этого так не формулирует.
Страницы, посвященные серважу, вопросу, специально интересовавшему Блока, можно назвать образцовыми по ясности и последовательности изложения. Рассмотрены источники серважа, отличия серва от виллана, характеристика основных черт французского серважа, наконец история термина. Блок подчеркивает, что уже в каролингскую эпоху под античной этикеткой servus скрывался на деле «один из главных элементов изменившейся социальной системы». Тем самым он признает коренную перемену в положении непосредственных производителей, происшедшую во франкскую эпоху (еще ранее он довольно полно и точно описал экономический кризис античного рабовладения), но он не распространяет эту перемену на весь общественный строй в целом.
Очерк о серваже Блок заканчивает очень интересным замечанием. Он считает, что серваж давал сеньору, в сущности, лишь ограниченные возможности использования труда крестьян, ибо последние развивали свою хозяйственную активность по преимуществу на держаниях, а повинности были фиксированы. Однако это интересное соображение (к которому он в дальнейшем возвращается в другой связи) не развито и не положено в основу понимания процесса исчезновения барщины, к изложению которого автор сразу же и переходит. С полным основанием, ссылаясь на фактический материал, Блок отвергает мысль, что во Франции исчезновение барщины было связано с развитием товарно-денежных отношений. Он считает, что к началу XII века, когда барщина утратила прежнее значение, города и торговля были развиты еще недостаточно. Блок полагает, что причина заключалась в каких-то общих глубоких процессах, происходивших в сеньории, но он ищет их в хозяйственных затруднениях феодалов и не может нащупать убедительного решения вопроса. Он очень интересно излагает фактическую сторону дела, указывает на общеевропейский характер явления, отмечает некоторое запаздывание в этом отношении Германии и резкое отставание Англии (Италии и Испании, где больше аналогий с Францией, он в данном случае не касается) и, наконец, признается в том, что не может объяснить причину этих различий между странами. Так, уже второй раз на протяжении первой сотни страниц своей книги, дойдя до самого существа проблемы, то есть до развития производительных сил, Блок заявляет о невозможности вскрыть основную причину описываемых явлений.
В четвертой главе, посвященной сеньории XIV–XVIII веков, рассмотрены две основные проблемы: упадок сеньориальных доходов в XIV–XV веках и реконструкция сеньории в XVI–XVII веках. Автор начинает с утверждения, что кризис XIV–XV веков отнюдь не сокрушил «старой основы сеньории», что права сеньоров на крестьян и на их участки, по существу, сохранились вплоть до революции. Новым является лишь упадок сеньориальной юрисдикции и исчезновение серважа. Последний процесс Блок излагает на основе обширных данных, собранных им в книге «Короли и сервы» (Париж, 1920), и связывает его с развитием городов. Он подчеркивает интенсивность этого процесса вблизи больших центров и его замедленность в отсталых областях.
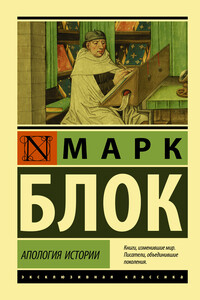
Марк Блок (1886–1944) – французский историк, автор трудов по средневековой Франции и общим проблемам методологии истории, основатель собственной исторической школы. Участник французского Сопротивления, расстрелян гестапо в 1944 году.Эта книга родилась из вопроса, заданного ребенком: «Папа, объясни мне, зачем нужна история?»И действительно, зачем? Для чего эти мертвые знания о том, что было раньше? Какое нам до этого дело?Книга Марка Блока «Апология истории» – ответ на эти вопросы и обоснование права историка заниматься своим ремеслом, чтобы знание прошлого помогало человеку «жить лучше».
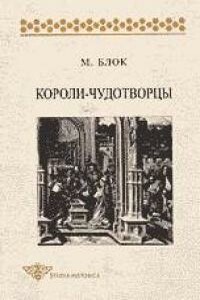
Исследование Марка Блока посвящено распространенной во Франции и Англии в Средние века и Новое время вере в то, что прикосновение королевской руки способно излечить больного, страдающего золотухой. Проблема эта может показаться частной, однако одновременно Блок дает ответы на вопросы основополагающие: каково происхождение монархической власти и какие чувства связывают монарха с его подданными; как рождаются и как умирают верования, распространенные в крупных человеческих сообществах; что такое умонастроение народа и как оно эволюционирует.
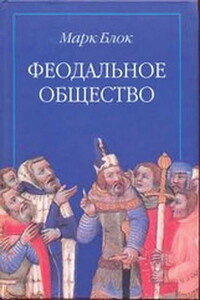
Книга известного французского исследователя представляет концептуальный взгляд на исторические процессы, эволюцию сословий, анализ развития и структуры отношений собственности, истории права, актуальные для современного понимания общества в его развитии.До настоящего времени российскому читателю эта фундаментальная работа (в 2-х томах) была знакома в основном но множественным ссылкам из других исторических работ. Первая полная публикация на русском языке восполняет этот пробел.
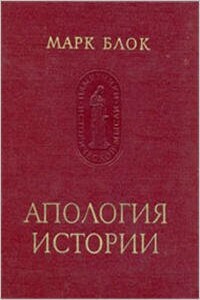
В «Апологии…» французский историк Марк Блок обосновывает как «легитимность» своего ремесла, право историка, в частности и моральное, заниматься тем, чем он занимается, так и «полезность» профессии историка в системе общественного разделения труда. Но сколь бы ни был высок социальный статус историка, позволяющий ему претендовать на особую внутреннюю автономию, в своих исследованиях прошлого он не вправе отстраняться от проблем современной действительности.Предметом исторического исследования согласно концепции автора является человек во времени.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.