Халкидонский догмат - [17]
— Что случилось?.. Тебе плохо? ― спросил я.
— Н-ничего… Н-немного шатает… Я не пью н-никогда.
Аверьянов осушил лицо и шею носовым платком, отмерил мне вымученную улыбку, дал себя взять под локоть, и мы поднялись в зал.
Мустафа, опасаясь неприятностей, костылял за нами следом.
— А ведь все сволочи, ф-фсе! ― мотал головой Аверьянов, когда мы вернулись за стол. ― Ты не обижайся… От президента, до п-последнего гаишника! Не могу так жить! Н-не могу! Стыдно… Ты понимаешь? Нет, правда, п-понимаешь?
— Понимаю, ― заверил я. ― Я тебя хорошо понимаю.
— Это н-не люди… А я ведь… Я ведь нормальный. Не аутсайдер, как ты. Даже конформист немножко, не обижайся… Я в обществе хочу жить, с людьми, а не в джунглях, понимаешь? ― Аверьянов вдруг перестал заикаться.
Плюхнувшись рядом со мной на стул, он уставился на меня с таким видом, будто видел меня впервые. Потом он стал хлопать меня по плечу, таким образом выражая, по-видимому, признательность — столько доставить всем хлопот!
Давая ему прийти в себя, я успокаивающе кивал Мустафе, который маячил в проеме двери, ведущей на кухню, и не спускал с нас глаз. С Аверьяновым я во всем соглашался. Он же тряс своими дряблыми, слегка порозовевшими щеками и продолжал твердить свое…
— Она мне всё рассказала… ― вдруг вычленил мой слух из его кашеобразной речи. ― С ней впервые такое… Я ей п-простил. К тому же н-не с кем п-п-попало, ― выдавил из себя Аверьянов.
Поймав на себе его взгляд, я не сразу понял, что произошло. В следующий миг я готов был провалиться сквозь землю.
— П-проблема в том, что… Она б-больше не хочет со мной жить… ― Аверьянов как-то весь передернулся. ― Г-говорит, я слишком п-простой!.. Это п-правда, я п-простой. Но н-не очень, ты же знаешь… Помоги мне! Т-ты должен м-мне п-помочь! Т-ты обещаешь? ― Он смотрел на меня умоляюще.
Невольно следя за входной дверью, я вспомнил, с каким выражением лица покинула нас Валентина. И вдруг я понял, что впервые в жизни оказался в подобной ситуации: я не знал, на чьей я стороне, я совершенно не знал, что делать дальше.
— Если бы ты согласился, мы бы сделали вид, что н-ничего н-не произошло, ― настаивал Аверьянов. ― П-послушай: д-давай откроем издательство!.. Я б-буду членом совета д-директоров… вместе с т-тобой. Или найму кого-нибудь! А ты… Ты б-будешь печатать всё, что захочешь… И вообще!.. Только п-пообещай мне, что вы никогда б-больше не увидитесь… Обещаешь?
Сделал над собой усилие, я невнятно изрек:
— Глупо обещать такие вещи.
— Значит, нет?!
Не знаю, кто потянул меня за язык, но я сказал совсем не то, что думал:
— Нет… В этом смысле нет.
Аверьянов примирительно кивнул, облокотился о край стола, подался вперед, наклонился ко мне, словно хотел что-то сказать мне на ухо. Но я попросту не понял его намерений. В следующий миг он схватил меня за шиворот и что есть силы потянул на себя.
Мой локоть сорвался со стола, и вместе мы рухнули на пол.
Лежа на полу, Аверьянов продолжал одной рукой удерживать меня мертвой хваткой за ворот, а другой вцепился мне в шею. В этот миг я, кажется, действительно предпочел бы быть задушенным. Можно представить себе, как безобразно выглядела сцена со стороны. Ресторанная публика, смотревшая на нас, вряд ли понимала, что происходит, ведь минуту назад мы мирно беседовали, и вот вдруг полезли друг на друга с кулаками. Но Аверьянов и вправду пытался меня задушить.
Наконец служащие заведения спохватились. Над головой у меня замаячила чья-то тень. Сквозь темные пятна, плывшие у меня перед глазами, я увидел склонившуюся надо мной страшноватую физиономию Мустафы. Кто-то из поваров, крупнотелый и краснолицый, оттаскивал Аверьянова в сторону, ухватив его неподатливую тушу за плечи. Раздался треск ― это на Аверьянове лопнул пиджак. Некоторые посетители заведения повыскакивали из-за столов. Двое официантов тем временем обступили меня поплотнее, вероятно, в полной уверенности, что меня тоже придется усмирять как буйнопомешанного. И когда я наконец пришел в себя, то увидел на входе полицейских…
Официанты расступились, давая дорогу стражам порядка. Я поднялся с пола. Присмиревший Аверьянов смотрел на стоявших вокруг с немым укором и словно призывал всех взглядом к действиям: «Господа товарищи, чего же вы стоите? Теперь ваша очередь меня мутузить!»
Судя по воинственному виду полицейских, нас следовало немедленно скрутить в узел. Однако обошлось без применения силы.
Мы стояли с понурыми лицами, руки по швам, ни дать ни взять подравшиеся недоросли. Да и можно ли тут было разобраться, кто зачинщик, а кто жертва бесчинств?
Нас подтолкнули к выходу. Лицо Аверьянова исказилось. Он судорожно вздрагивал при каждом прикосновении к нему, будто его ошпаривали кипятком, и затравленно бегал глазами по сторонам. У меня даже промелькнула мысль, не высматривает ли он удобную лазейку, чтобы рвануть в сторону и дать деру. Я не мог прийти в себя от пережитого волнения и старался поточнее выполнять все требования полицейских ― из опасения, что любой неосторожный жест, чего доброго, будет не так истолкован, и тогда нам обоим достанется еще и дубинкой по ребрам.
Темный ночной тротуар, на который нас вытолкали как спьяну подравшуюся шпану, был мокрым от прошедшего недавно дождя. Свежий воздух и безлюдная улица казались спасением от только что пережитого позора. Проезжую часть преграждал полицейский микроавтобус. Его боковая дверь была открыта. Один из полицейских жестом приказал нам лезть вовнутрь.
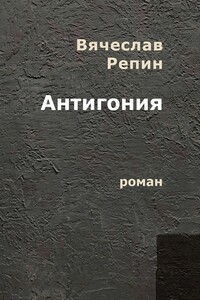
«Антигония» ― это реалистичная современная фабула, основанная на автобиографичном опыте писателя. Роман вовлекает читателя в спираль переплетающихся судеб писателей-друзей, русского и американца, повествует о нашей эпохе, о писательстве, как о форме существования. Не является ли литература пародией на действительность, своего рода копией правды? Сам пишущий — не безответственный ли он выдумщик, паразитирующий на богатстве чужого жизненного опыта? Роман выдвигался на премию «Большая книга».
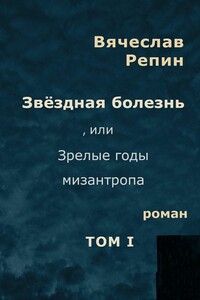
«Звёздная болезнь…» — первый роман В. Б. Репина («Терра», Москва, 1998). Этот «нерусский» роман является предтечей целого явления в современной русской литературе, которое можно назвать «разгерметизацией» русской литературы, возвратом к универсальным истокам через слияние с общемировым литературным процессом. Роман повествует о судьбе французского адвоката русского происхождения, об эпохе заката «постиндустриальных» ценностей западноевропейского общества. Роман выдвигался на Букеровскую премию.

«Звёздная болезнь…» — первый роман В. Б. Репина («Терра», Москва, 1998). Этот «нерусский» роман является предтечей целого явления в современной русской литературе, которое можно назвать «разгерметизацией» русской литературы, возвратом к универсальным истокам через слияние с общемировым литературным процессом. Роман повествует о судьбе французского адвоката русского происхождения, об эпохе заката «постиндустриальных» ценностей западноевропейского общества. Роман выдвигался на Букеровскую премию.

«Хам и хамелеоны» (2010) ― незаурядный полифонический текст, роман-фреска, охватывающий огромный пласт современной русской жизни. Россия последних лет, кавказские события, реальные боевые действия, цинизм современности, многомерная повседневность русской жизни, метафизическое столкновение личности с обществом… ― нет тематики более противоречивой. Роман удивляет полемичностью затрагиваемых тем и отказом автора от торных путей, на которых ищет себя современная русская литература.

«Хам и хамелеоны» (2010) ― незаурядный полифонический текст, роман-фреска, охватывающий огромный пласт современной русской жизни. Россия последних лет, кавказские события, реальные боевые действия, цинизм современности, многомерная повседневность русской жизни, метафизическое столкновение личности с обществом… ― нет тематики более противоречивой. Роман удивляет полемичностью затрагиваемых тем и отказом автора от торных путей, на которых ищет себя современная русская литература.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
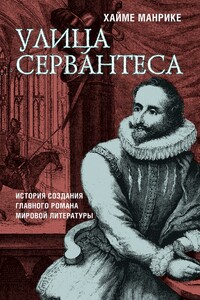
«Улица Сервантеса» – художественная реконструкция наполненной удивительными событиями жизни Мигеля де Сервантеса Сааведра, история создания великого романа о Рыцаре Печального Образа, а также разгадка тайны появления фальшивого «Дон Кихота»…Молодой Мигель серьезно ранит соперника во время карточной ссоры, бежит из Мадрида и скрывается от властей, странствуя с бродячей театральной труппой. Позже идет служить в армию и отличается в сражении с турками под Лепанто, получив ранение, навсегда лишившее движения его левую руку.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Это история о матери и ее дочке Анжелике. Две потерянные души, два одиночества. Мама в поисках счастья и любви, в бесконечном страхе за свою дочь. Она не замечает, как ломает Анжелику, как сильно маленькая девочка перенимает мамины страхи и вбирает их в себя. Чтобы в дальнейшем повторить мамину судьбу, отчаянно борясь с одиночеством и тревогой.Мама – обычная женщина, та, что пытается одна воспитывать дочь, та, что отчаянно цепляется за мужчин, с которыми сталкивает ее судьба.Анжелика – маленькая девочка, которой так не хватает любви и ласки.

Сборник стихотворений и малой прозы «Вдохновение» – ежемесячное издание, выходящее в 2017 году.«Вдохновение» объединяет прозаиков и поэтов со всей России и стран ближнего зарубежья. Любовная и философская лирика, фэнтези и автобиографические рассказы, поэмы и байки – таков примерный и далеко не полный список жанров, представленных на страницах этих книг.Во второй выпуск вошли произведения 19 авторов, каждый из которых оригинален и по-своему интересен, и всех их объединяет вдохновение.
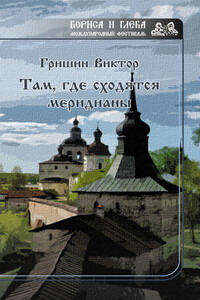
Какова роль Веры для человека и человечества? Какова роль Памяти? В Российском государстве всегда остро стоял этот вопрос. Не просто так люди выбирают пути добродетели и смирения – ведь что-то нужно положить на чашу весов, по которым будут судить весь род людской. Государство и сильные его всегда должны помнить, что мир держится на плечах обычных людей, и пока жива Память, пока живо Добро – не сломить нас.