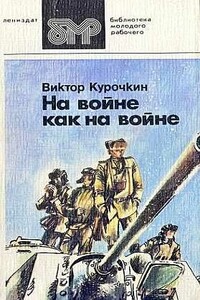Гроза - [79]
Айбадак первая поздоровалась с Турсунташ. Хатам, наконец, нарушил всеобщее неловкое молчание:
— Турсунташ, открой свое лицо и поздоровайся со всеми. Не было у нас с тобой отца, теперь он у нас есть, не было у нас матери, теперь она у нас есть. Появились у нас и два крыла — преданный Султанмурад и заботливая сестра Кутлугой.
Хозяева дома посмотрели друг на друга недоуменно, все еще не понимая, как видно, в чем тут дело.
— Простите и примите под свой кров меня и мою жену, а вашу невестку Турсунташ… У нас не было другого выхода… — И Хатам рассказал, что с ними произошло и каким образом они оказались на пороге Джаббаркула.
Джаббаркул и Айбадак слушали хмурясь, качая головой и мрачнея с каждым услышанным словом. Кутлугой, усевшись за столбом террасы, давно уже плакала. Хатам, рассказывая, и сам уж чувствовал, что все, совершенное им, не нравится хозяевам дома и больше другого не нравится его ночной приход сюда вместе с молодой Турсунташ. Не успел он закрыть рта, как Айбадак высказала свое неудовольствие вслух:
— Нехорошее дело затеяли вы, — сказала она Хатаму, — добром не кончится.
Старик отвел юношу в сторону:
— Сын мой, Хатамджан, понятно, что вас обоих потянуло ко мне, и вы пришли просить крова. Очень я это ценю, свет моих глаз. С великим удовольствием хотел бы я вам помочь… Но со стыдом думаю, что моя жалкая лачуга не сможет стать вашим убежищем. Не обижайся на мои слова, а рассуди сам, ты же умный и понятливый юноша… Ты думаешь, что ищейки эмира, добравшись до мечети имама Хасана, имама Хусана, не доберутся потом сюда? Додхудай ведь знает, что ты мне названый сын. А если они поймают вас здесь, то жестоко отомстят и вам и мне с моим бедным семейством. Вот почему я вынужден выдавливать из себя эти неприятные слова… Ты совершил благодеяние, спас девушку, защитил ее, пожертвовал ради нее собой… Уж лучше бы колючка, предназначенная тебя уколоть, уколола меня…
У Хатама не хватило терпенья слушать старика дальше, он его перебил:
— Атаджан! Правду говорят, что мудрость приходит с годами. Вы все говорите правильно, но время не ждет. Нам надо спешить. Вы меня неправильно поняли. Я пришел только для того, чтобы получить ваше благословение и попрощаться.
Он взял Турсунташ за руку и сказал ей: «Пошли». Она покорно и безмолвно подчинилась ему.
— Куда? Хатам, сын мой! Куда вы? — запричитал старик, рванувшись вдогонку за молодыми, но силы изменили ему, и он без чувств повалился на землю.
ЭПИЛОГ
Сияющее с утра небо к полудню стало заволакивать черными тучами. Они медленно двигались с востока, поглощая одну за другой вершины гор и холмов. Порывами стал налетать ветер, поднимая с земли сначала лишь пыль, но потом и мусор. Кроны деревьев метались по ветру с такой же легкостью, как если бы это были распущенные женские волосы. Когда тучи закрыли три четверти неба, стало темно, как в сумерки, потом потемнело, и все небо, земля окутались мраком. Вдруг часто, наперебой засверкали молнии и сразу со всех сторон оглушительно загрохотало. Земля и небо, долины и горы, все перемешалось во мраке, все дрожало, освещалось и гасло, все бурлило и кипело, словно в котле. Чуть позже обрушился на землю сплошной стеной воды грозовой ливень. Струи воды неистовствовали на ветру, переплетались между собой и, если бы было кого, стегали бы больно, как плети. Но пуста была под грозой и ливнем нуратинская степь. Пастухи загнали, свои стада в укрытия, все живое попряталось в ужасе перед разбушевавшейся стихией.
И пришедший в себя Джаббаркул, и жена его Айбадак, и дочь его Кутлугой, и сын его Султанмурад, и Ходжа-бобо в своей каморке, примыкающей к мечети имама Хасана, имама Хусана, сколько бы не вспоминали, сколько бы ни гадали, где сейчас находятся и переживают грозу бедные Хатам с Турсунташ, ничего не могли бы предположить. Удалось ли им спастись от сарбазов эмира, или схвачены они и валяются сейчас в грязной яме зиндана, дожидаясь публичной казни, или, может быть, в той пещере лежат они, обнимаясь все крепче, и от страха и от любви, и что с ними будет дальше, и как им жить, и куда идти, и чем питаться, казалось, ничего не увидишь, не угадаешь за сплошной стеной ливня, в беспрерывном грохотании грома и в сверкании небесных молний. Но вот в этом хаосе звуков вдруг стал прослушиваться конский топот. Все отчетливее и отчетливее. Это сарбазы эмира настигали беглецов, неся им муки и смерть.
СПОЛОХИ ГРОЗЫ
Бывает так: томов премногих тяжелей оказывается иной раз всего несколько эпистолярных строк, каким-то непостижимым чудом предельно сгущающих, концентрирующих в себе энергию мысли. И обронены они словно бы ненароком, и не претендуют вроде бы ни на какие откровения, а по скрытой сути своей подобны зерну, из которого на глазах произрастает, кустится колос. До того плотно спрессована, точно и ясно выражена в них искомая истина, ослепительной зарницей осветившая вдруг темнеющий небосвод.
Такое ощущение внезапной вспышки, мгновенного просверка истины оставляет датированное 1958 годом письмо Александра Твардовского Владимиру Фоменко, где, казалось бы, между делом заходит речь о «взаимоотношениях» искусства и жизни, литературы и истории. «Ведь это верно, — рассуждает автор письма, — что жизнь без искусства, т. е. правдивого отражения ее и закрепления ее преходящести, была бы попросту бессмысленна. Более того, жизнь, действительность не полностью и действительна до того, как она отразится в зеркале искусства, только с ним она, так сказать, получает полную свою действительность и приобретает устойчивость, стабильность, значимость на длительные сроки. Чем был бы для самосознания многих поколений русских людей 1812 г. без «Войны и мира»? И что, например, для нас семилетняя война 1756—63 гг., когда русские брали Кенигсберг и Берлин и чуть не поймали в плен разбитого ими Фридриха II? Почти — ничто. Примеры эти можно было бы находить и приводить во множестве…»
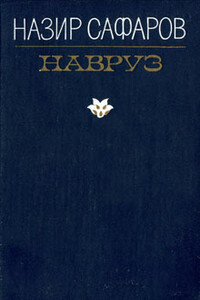
В основу романа народного писателя Узбекистана Назира Сафарова легли подлинные исторические, события, очевидцем которых он был: Джизакское восстание 1916 года, Февральская и Октябрьская революции, гражданская война, становление Советской власти в Туркестане. Первая книга романа была удостоена Государственной премии Узбекской ССР им. Хамзы.
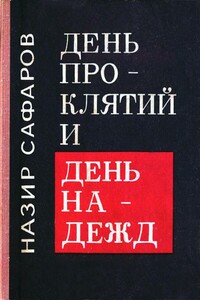
«Страницы прожитого и пережитого» — так назвал свою книгу Назир Сафаров. И это действительно страницы человеческой жизни, трудной, порой невыносимо грудной, но яркой, полной страстного желания открыть народу путь к свету и счастью.Писатель рассказывает о себе, о своих сверстниках, о людях, которых встретил на пути борьбы. Участник восстания 1916 года в Джизаке, свидетель событий, ознаменовавших рождение нового мира на Востоке, Назир Сафаров правдиво передает атмосферу тех суровых и героических лет, через судьбу мальчика и судьбу его близких показывает формирование нового человека — человека советской эпохи.«Страницы прожитого и пережитого» удостоены республиканской премии имени Хамзы как лучшее произведение узбекской прозы 1968 года.
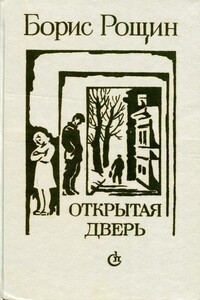
Это наиболее полная книга самобытного ленинградского писателя Бориса Рощина. В ее основе две повести — «Открытая дверь» и «Не без добрых людей», уже получившие широкую известность. Действие повестей происходит в районной заготовительной конторе, где властвует директор, насаждающий среди рабочих пьянство, дабы легче было подчинять их своей воле. Здоровые силы коллектива, ярким представителем которых является бригадир грузчиков Антоныч, восстают против этого зла. В книгу также вошли повести «Тайна», «Во дворе кричала собака» и другие, а также рассказы о природе и животных.
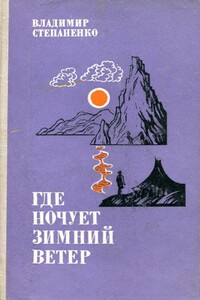
Автор книг «Голубой дымок вигвама», «Компасу надо верить», «Комендант Черного озера» В. Степаненко в романе «Где ночует зимний ветер» рассказывает о выборе своего места в жизни вчерашней десятиклассницей Анфисой Аникушкиной, приехавшей работать в геологическую партию на Полярный Урал из Москвы. Много интересных людей встречает Анфиса в этот ответственный для нее период — людей разного жизненного опыта, разных профессий. В экспедиции она приобщается к труду, проходит через суровые испытания, познает настоящую дружбу, встречает свою любовь.
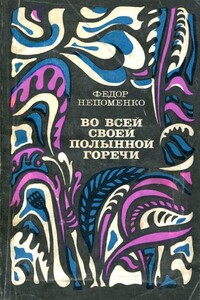
В книгу украинского прозаика Федора Непоменко входят новые повесть и рассказы. В повести «Во всей своей полынной горечи» рассказывается о трагической судьбе колхозного объездчика Прокопа Багния. Жить среди людей, быть перед ними ответственным за каждый свой поступок — нравственный закон жизни каждого человека, и забвение его приводит к моральному распаду личности — такова главная идея повести, действие которой происходит в украинской деревне шестидесятых годов.
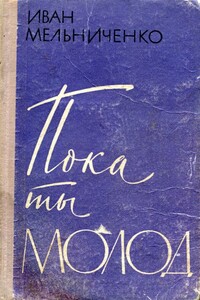
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
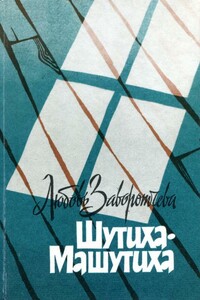
Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.