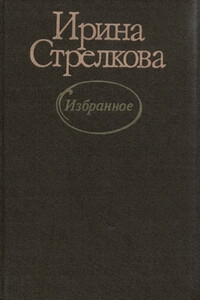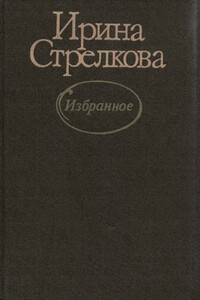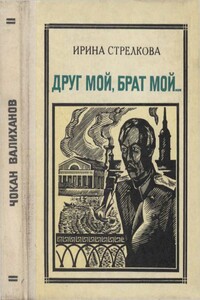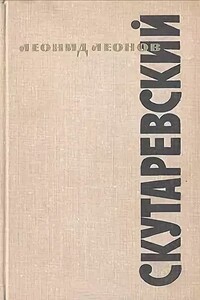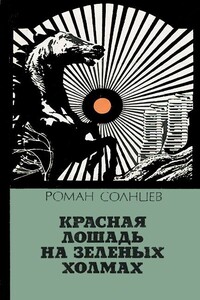— Ты вряд ли удивишься, — сказала Затонову его бывшая жена Маргарита. Он встретил ее на улице, неподалеку от дома, где снова жил у матери. — Ты вряд ли удивишься, получив повестку из суда. — Маргарита отставила ногу, полюбовалась на новые сапожки. — Мне надоело, я подала на развод…
Значит, она встретилась ему у его дома не случайно. С Маргаритой ничего не могло произойти случайно. Она всегда все предвидела далеко вперед. Наверное, еще выходя за него замуж, разумно предполагала, что рано или поздно они все равно расстанутся, даже знала, когда примерно это произойдет. А Затонов ничего наперед не знал. Он пошел в суд с повесткой в кармане, очень смутно представляя себе, что там надо делать и говорить и какие документы, кроме паспорта, иметь при себе.
День был весенний, пронзительно-громкий после зимней ватной глухоты: кричали воробьи, отмываясь в снежных лужах от городской копоти, кричали ребятишки, доскребавшие клюшками остатний лед, кричала на весь свет обновленная надпись на асфальте: «Вовка дурак».
Хороший мог быть день, но вышел совсем пропащий.
Славно было бы сегодня поехать с Севостьяновыми на рыбалку, побродить по рыхлому стеклянному снегу в высоких резиновых сапогах, под которые надеты толстые, белые, материной вязки, носки. Снег осыпается, рушится, на хоженой, дочерна утоптанной за зиму тропинке вдруг ухнешь по колено и пойдешь проламывать глубокие корявые следы, пока, весь напрягшись, не приловчишься облегчить свой шаг. И уж тогда пошагаешь, как полетишь, ощущая под собой хрусткую глубину.
Хороший сегодня день — через неделю такого уже и не застанешь.
Затонов для собственного утешения стал припоминать, как спокойно и мудро сумел прожить нынешнюю зиму. С Севостьяновыми — отцом и сыном — каждую субботу уезжал на реку, на подледный лов. Возле лунок у них была сооружена для укрытия от ветра фанерная будка на манер собачьей конуры. Севостьяновы возили с собой примус для обогрева и деревянный, на санных полозьях, сундучок со всем рыболовным снаряжением. Рыбалку они построили капитально — самому Затонову так не суметь. Оба Севостьяновы были серьезны и рассудительны, как сазаны. Прилаживаясь к ним, Затонов старался быть не таким уж бойким и безрассудным окунем, лезущим губой на крючок. Ему хотелось оправдать заботу Севостьянова-отца, веровавшего в целительность рыбалки от разных семейных горестей. У самого Севостьянова семейная жизнь была на редкость благополучная, мирная, и если и случались ссоры с женой, то лишь из-за рыбалки, которую тетя Шура всякий раз ругательски ругала.
У Севостьяновых в любую погоду ловилось хорошо, а у Затонова нет. Он препоручал свою снасть Витюне и шел куда глаза глядят, бродил по зимнему лесу, радуясь вечному зеленому огню елок. Однажды он пошел через реку к чуть возвышавшемуся вдали лесистому островку. Сначала шагал по визгливому, зализанному ветром, плотному снегу и не заметил, как под ногами оказался дочиста выметенный, голый, пузырчатый лед, разрисованный черными трещинами. Затонов подумал, что надо бы вернуться, но островок с кустами, зацветшими нежным инеем, был уже близко. Затонов, окостеневая от напряжения, двинулся дальше. Когда до островка оставалось метра два, ледяное поле ухнуло из-под ног, и Затонов заячьим прыжком выбросился на берег, ухватился за нежные пушистые ветки и почувствовал, как взлетевший иней оседает на его губах сладкой сахарной пудрой. Затонов облизнул губы, сглотнул сладкую слюну и оглянулся: край льда, вмерзший в берег, висел над пустотой, ледяное поле опустилось вниз, в трещинах проступила вода.
К лункам Затонов вернулся дальним, кружным путем. Севостьянов объяснил ему, что такие шутки лед играет, если под ним мелеет река — лед висит над пустотой и потом обрывается. Почему иней оказался сладким, Севостьянов тоже объяснил:
— Со страху засластило.
Севостьянов любил что-нибудь объяснять Затонову. Он был ровесником и другом отца Затонова, только отец успел жениться за год до войны, а Севостьянов ушел на фронт холостым. Затонову минул шестой год, когда Севостьянов при шпорах и орденах вернулся с войны и на радостях, что жив и весь целехонек, пил и гулял напропалую, перессорил в поселке незамужних девчат, ни одну не обойдя своим вниманием, а когда впадал в раскаяние, приходил к Затоновым, вспоминал о погибшем дружке, сам плакал и мать доводил до слез. Женился он много позже. А когда родился Витюня, Севостьянов начал носить Затонову, уже считавшему себя взрослым, потихоньку покуривавшему, леденцовых петухов — видно, думал, что если отцы были ровесниками, то и сыновья должны ими быть.
Витюня Севостьянов к шестнадцати годам вымахал выше отца, но над студеной, дышащей сыростью лункой его широкий вздернутый нос набухал и сопливился, как у младенца. Молодое нерасчетливое тело не держало тепла, Витюня раньше всех промерзал до цыганской дрожи. Ради него отец снимался со льда часа на два раньше, чем требовалось, чтобы успеть на станцию к вечернему поезду. Они по дороге заходили в сельскую чайную, садились за стол, разминая онемевшие спины, знакомая подавальщица несла им перестоявшийся рассольник и битки с серой вермишелью. После первой же ложки у Затонова появлялось ощущение, будто внутри в нем затопили печку и жар пышет в лицо, а потом начинает забирать и ноги, они отогреваются и тихо ноют. Витюня уже в чайной начинал дремать и в вагоне сразу засыпал, по-детски распустив губы, а Севостьянов только тут оживлялся, заводил с соседями беседы на рыболовные и международные темы, и Затонову было чего послушать.