Горизонты исторической нарратологии - [9]
Данное коммуникативное событие происходит вследствие сопряжения событийного опыта героя-Петра, рассказчика-студента и его слушательниц: Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр. Говорящему, мучимому голодом, тоской и тревожным ощущением, что внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, становится внятным внутреннее бытие Петра – не как апостола, но как отчаявшегося и усталого человека: Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед. И тогда оказывается, что не только студент ситуативно подобен греющемуся апостолу, но и апостол подобен рассказывающему о нем человеку: С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Однако рассказчик не ограничивается такого рода самоуподоблением. Он вовлекает собеседницу в переживание событийного опыта девятнадцативековой давности: Значит, и тогда было холодно. Ах, какая это была страшная ночь, бабушка! Если первая из этих двух фраз объединяет говорящего и слушающих, то вторая звучит как бы из уст очевидца или даже участника тех событий, словно из уст самого апостола, открывшегося студенту в своей человечности.
Мы имеем дело с очевидной редупликацией: студент Иван, сопрягая свое существование с переживаниями апостола Петра, подобно апостолу постигает провидческую правоту Христа. Именно эта правота (правда и красота) наделяет историю – большую общечеловеческую и приобщенную к ней малую – смыслом (завершающее слово чеховского текста). Чеховский повествователь вовлекает нас (читателей) в событие прозрения героя тем же, можно сказать, путем, каким сам герой приобщал вдов к евангельскому событию.
В книге 1998 года Вольф Шмид отвергает событийность чеховского «Студента», сомневаясь в необратимости происходящей в душе героя перемены: «Конечная эйфория студента не может быть постоянной. Его мнимое постижение не будет необратимым»[38]. Однако подобное рассуждение нарратологически неправомерно, поскольку выводит осмысление рассказанного за границы нарративной истории, как если бы персонажи существовали в реальной, донарративной действительности. Тогда как впоследствии в своей «Нарратологии» Шмид справедливо настаивает: нарративная история – это уже «результат смыслопорождающего отбора элементов из происшествий, превращающего бесконечность происшествий в ограниченную, значимую формацию»[39].
Смыслопорождающая «значимая формация» рассказанной истории такова, что перемена настроения приобретает событийную значимость: И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Радость жизни, сменившая первоначальное уныние, в пределах этой малой истории (событийность – категория не количественная, а качественная) оказывается точкой самоактуализации личности героя.
При этом начало и конец истории поляризованы в своей пессимистической и оптимистической тональностях, как Страстная пятница и ожидание Пасхального воскресенья. Даже повторы ударных гласных принимают участие в этой поляризации. Повествование в первом абзаце артикуляционно окрашено повторами отчетливо ощутимой не только в ударном положении фонемы У – словно бы отзвуками одинокого жалобного гУдения, издаваемого чем-то живым: гУдело, точно дУло в пУстУЮ бУтылкУ; по лУжам потянУлись ледяные иглы; в лесУ неУЮтно, глУхо и нелЮдимо… Заметивший данный повтор Шмид писал: «пустая бутылка, этот подчеркиваемый звуковым повтором начальный мотив, указывает на несостоявшееся событие»[40]. Этому легко возразить, обратив внимание на то, что заключительный абзац озвучен как раз повторами ударной А (из слова «радость»): прАвда и красотА […] всегдА составляли глАвное; слАдкое ожидАние счАстья, неведомого, таинственного счАстья, овладевАло им мАло-помАлу…
Такого рода смысловые отношения не привносятся в художественные тексты в качестве их «идей», а устанавливаются ни чем иным, как процедурой наррации – особого рода деятельности, формирующей и ретранслирующей наш событийный опыт присутствия в мире.
Следует подчеркнуть, что нарратологии ни в коем случае не следует утрачивать четкого представления о границах этой деятельности: «нарратология без берегов» эвристически непродуктивна. Для понимания сущности любого явления крайне важно осознание того, чем оно не является. Вне предмета нарратологии остаются тексты, референтное содержание которых в интенциональном акте дискуссии не наделяется статусом события.
Таковы, в частности, перформативные высказывания, которые, будучи непосредственными речевыми действиями, а не сообщениями о действиях, являют собой автореферентные дискурсы. Это широкий круг анарративных речевых жанров от магического заклинания, клятвы, присвоения имени, похвальбы и брани, оскорбления или комплимента до декларации, воззвания, молитвы; сюда же принадлежит и лирика в качестве литературного рода художественного письма.
Противоположная анарративная интенция состоит в констатирующем «схватывании» референтного содержания путем описания, рассуждения или идентификации. Описания и рассуждения нередко встречаются в нарративных текстах наряду с повествованием. Однако здесь это лишь усложняющие и обогащающие данный дискурс вкрапления, лишь острова, омываемые повествовательным потоком.

Исторический контекст любой эпохи включает в себя ее культурный словарь, реконструкцией которого общими усилиями занимаются филологи, искусствоведы, историки философии и историки идей. Попытка рассмотреть проблемы этой реконструкции была предпринята в ходе конференции «Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов», устроенной Институтом высших гуманитарных исследований Российского государственного университета и издательством «Новое литературное обозрение» и состоявшейся в РГГУ 16–17 февраля 2009 года.

Постмодернизм отождествляют с современностью и пытаются с ним расстаться, благословляют его и проклинают. Но без постмодерна как состояния культуры невозможно представить себе ни одно явление современности. Александр Викторович Марков предлагает рассматривать постмодерн как школу критического мышления и одновременно как необходимый этап взаимодействия университетской учености и массовой культуры. В курсе лекций постмодернизм не сводится ни к идеологиям, ни к литературному стилю, но изучается как эпоха со своими открытиями и возможностями.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Мемуары русского художника, мастера городского пейзажа, участника творческого объединения «Мир искусства», художественного критика.

В книге рассказывается об интересных особенностях монументального декора на фасадах жилых и общественных зданий в Петербурге, Хельсинки и Риге. Автор привлекает широкий культурологический материал, позволяющий глубже окунуться в эпоху модерна. Издание предназначено как для специалистов-искусствоведов, так и для широкого круга читателей.
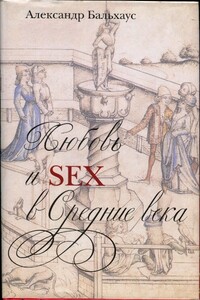
Средневековье — эпоха контрастов, противоречий и больших перемен. Но что думали и как чувствовали люди, жившие в те времена? Чем были для них любовь, нежность, сексуальность? Неужели наше отношение к интимной стороне жизни так уж отличается от средневекового? Книга «Любовь и секс в Средние века» дает нам возможность отправиться в путешествие по этому историческому периоду, полному поразительных крайностей. Картина, нарисованная немецким историком Александром Бальхаусом, позволяет взглянуть на личную жизнь европейцев 500-1500 гг.

В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда попадались провокаторы и подлецы – те, кто нарушал правила и показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше общество. Эта книга – блестящее и увлекательное исследование мира эпохи Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы: Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не только неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей шляпы? Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или просто соседом окажутся самыми лучшими? Окунитесь в дерзкий мир Елизаветинской Англии!