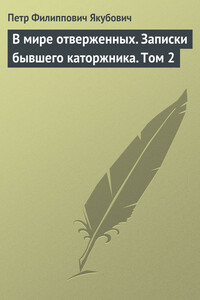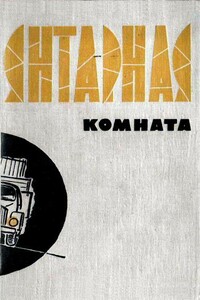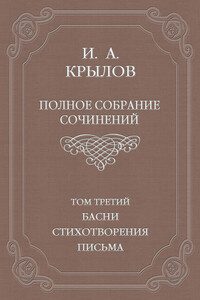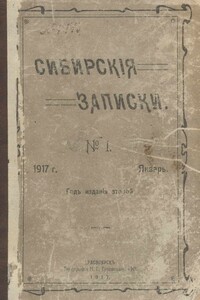Шли мы с ним тихо, нога за ногу. Хотя было только семь часов утра, но солнце жгло сильно. Небо стояло туманно-синее. Ветер не дунет. Солнечные лучи Tab-ярки, что резали глаза. Несмотря, однако ж, на жару, мой Кабан был разодет в полную «парадную» мужицкую одежду и чувствовал в ней себя, по-видимому, не особенно ловко: суконный светло-синий кафтан был у него до того еще новый, что, казалось, только что сейчас взят в московском Гостином дворе; густо накрахмаленная подкладка у него шумела и топорщилась; высокий ворот колом подпирал шею и бороду Кабана. На шею он ухитрился еще повязать толстый полушелковый цветной платок, отчего лицо у него налилось кровью. На голове был также совсем почти новый картуз, «московский».
– Недавно, должно быть, закупил обновки-то? – спросил я.
– Купил?.. У меня и денег-то нет… Это – все мои… Все они обо мне промышляют… Прислали вот, пишут: «Посылаем тебе, тятенька, костюм московский и заказываем накрепко, чтобы его надевал в церковь, по праздникам… И чтобы, пожалуйста, в клеть не прятать, а стараться сделать нам удовольствие…» Ну, пущай… Вот и хожу, ровно журавль! Вот и сапоги… Вишь, какие подковы!.. Хошь в пляс пускайся на старости лет…
Листарх Петрович заворотил полу, поднял ногу и. показывая мне новый сапог, сам еще раз полюбовался высокими каблуками с подковками и покачал головой.
– Ах ты, господи!.. До чего я дожил! – вздохнул он, бережно поправляя полы и рукава кафтана и корявыми пальцами стараясь снять оседавшую на них тонкую паутину.
– Чудак ты, Листарх Петрович, – засмеялся я.
– Не говори! – махнул он рукой. – Сам вижу… Ничего не поделаешь! Приказ такой вышел… Надо молодых потешить…
Из церкви мы вышли к «девке с душой» не улицей, а «задами», по пробитой между банями и поросшей репейником тропке. Перешагнув совсем высохший, грязноватый ручеек в овражке, мы вошли в «огород», состоявший счетом из трех гряд с капустой. За грядами был соломенный навес над двором на двух, трех столбах, между которыми сделан плетень.
– Вишь ты, братец, как у нее все беднеет, – проговорил Кабан, покачивая сокрушенно головой, – да!.. Худо, совсем худо… Вишь ты, как облысела крыша-то: солома-то вся прогнила, слезла…
– А чего ты ей не помогаешь?
– Помогаю… Даю когда соломы, семян… Тоже мне, брат, воспрещают… Надо мной тоже надсмотрщики есть… Бабы у нас такие ехидные – беда!.. Приедут мои-то левизоры, оне им в точную обо мне и донесут… Да… А левизоры-то говорят: «Ты, тятенька, жир-то нагуливай, господь с тобой, мы тебя этим не утесняем, ну только имущество наше расхищать мы позволить не можем…» Вот они как поговаривают!.. Ну-ка, заворачивай во дворец к Милитрисе-красавице!.. Ха-ха-ха! Красавица!
Кабан снял еще на улице картуз, вероятно боясь помять его торчащую тулью о низкую крышу сеней, и, полуотворив дверь, крикнул в глубь избы:
– Эй, Степаха!.. Сваты идут… Принимай гостей!.. Городские гости!.. Баре-то бывали ли у тебя когда ни то?
Но на этот возглас никто не отвечал. Мы вошли. По-видимому, наш приход не произвел никакого впечатления на обитателей амбарушки.
– Что же ты молчишь? Приглашай барина-то, – сказал Кабан сидевшей у стола Степаше с большою деревянною ложкой в руках, которою она мерно и медленно хлебала что-то из чашки.
– Милости просим… У нас вход без запрету. Садитесь, коли любо, – сказала Степаша грубоватым голосом, искоса равнодушно взглянув на нас; она продолжала мерно есть, после каждой ложки тщательно вытирая пригоршней толстые губы.
Мы присели на лавке из узкой сучковатой тесины у стены, сбоку от окон, ближе к простой, сосновой, уже почерневшей божнице в переднем углу. Две иконы «темного письма» стояли на ней, затканные густой паутиной, – и только. С боков божницы, пришпиленные булавками, висели два клочка обоев с розовыми цветами (бедные крестьяне употребляют иногда, вместо картин, куски обоев, которые даром добывают у горожан). Тут же висит Еруслан Лазаревич на белом коне. Оказалось, что он приобретен ошибкой, вместо Георгия Победоносца, поражающего змия. Если прибавить к этому промасленный небольшой стол и висевшую по задней стене рухлядь, – вот и вся обстановка избы.
Кроме меня, Кабана и Степаши, в избе были еще два человека. У задней стены, в углу, сидел маленький, плюгавый мужичок, неопределенных лет, но не старик; лицо у него было тоже маленькое, белое, красноватое, нос – луковицей, глаза бесцветные, желтовато-серые волосы были вдоволь намочены квасом и прилизаны; бородка белая, маленькая, кудрявая, образовавшая вокруг рта подобие гнезда; рубаха на нем – изгребная, синяя, из-за ворота которой смотрела выжженная, перегорелая, с потрескавшеюся кожей шея; на шее, по-праздничному, был повязан грязный лоскуток, на ногах – синие же порты и лапти. Руки у него были сухие, изможденные, так что рукава рубашки висели на них, как на палках; впрочем, в них не замечалось болезненной дряблости; это были именно палки, – казалось, без нервов, без мускулов, без крови: твердые, жесткие, прочные, которые и нож не возьмет.
Мужичок этот не шевельнулся ни одним членом, когда мы вошли. Он молча жевал черный хлеб с луком, широко открывая рот и показывая замечательно белые, здоровые зубы, чавкал, собирал с подола в рот крошки и смотрел на нас равнодушно во вес глаза. Рядом с ним сидел кот и, лениво щурясь, наблюдал, как он ел.