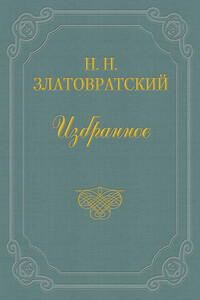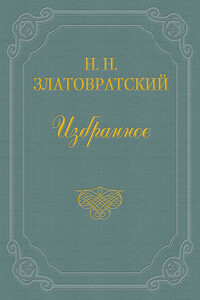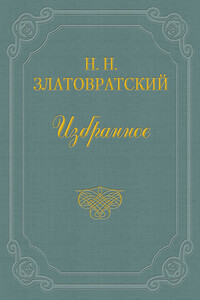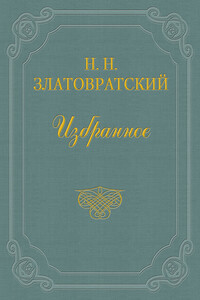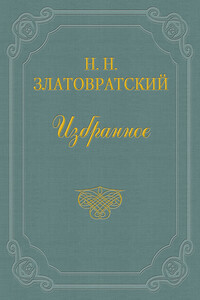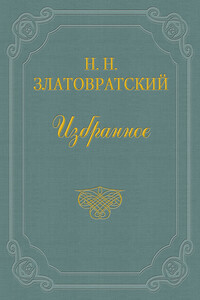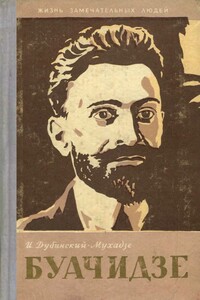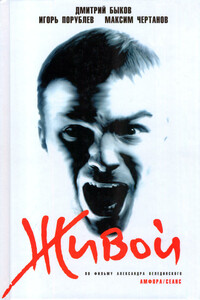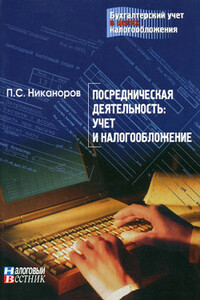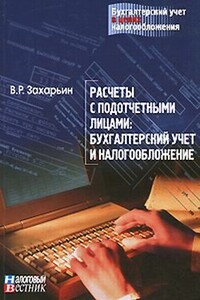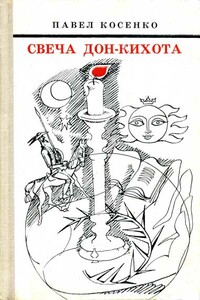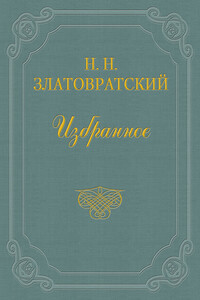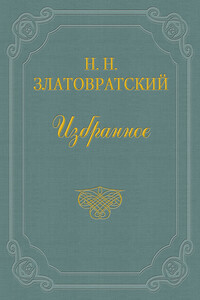«Освободительные» будни. – Неудачные приключения «свободного стана».
Наступил 61-й год – год «великой исторической эры»… Характерно, однако, то, что, несмотря на напряженное состояние, которое переживали в течение нескольких лет окружающие меня близкие люди в преддверии этой эры, отдав на возможную для них подготовку ее всю свою духовную энергию, самое завершение «великого акта» 19 февраля осталось в моих воспоминаниях в самых смутных и будничных очертаниях. Объясняется ли это тем, что само высшее начальство, повидимому, считало необходимым, ввиду якобы государственных соображений, обставить опубликование этого акта возможной таинственностью и «скромностью», или тем, что мои близкие уже заранее изжили весь духовный подъем медовых месяцев «крестьянского освобождения» и формальное завершение его «манифестом» являлось для них лишь простой «юридической санкцией», значительной степени, кроме того, отравленной ядом сомнений, разочарований и жутких предчувствий… Так или иначе, но 15 марта, день официального опубликования у нас манифеста 19 февраля, остался в моих воспоминаниях совершенно бесцветным и будничным. Был, конечно, торжественный молебен в соборе в присутствии всего местного генералитета, был для него прочитан с амвона манифест, но… «народ», сам народ «отсутствовал» столь же блистательно, как в эпилоге «Бориса Годунова». О «народных же ликованиях» ниоткуда не доходило никаких и слухов. Царили, повидимому, сугубые провинциальные будни.
Из «официальных» проявлений, отметивших у нас «эру освобождения», у меня остались в памяти только два характерных факта. Один – это получение, кажется в марте же месяце, одновременно с манифестом, «Положения 19 февраля», которое в сотнях экземпляров было доставлено как в канцелярию дворянского собрания, так и в нашу библиотеку, где они буквально расхватывались заинтересованными лицами, так что я едва поспевал выдавать их покупателям. «Положение», как известно, было очень объемисто, в формате писчего листа, и в общей сложности, со всякими приложениями, не менее 20 печатных листов. Понятно, что «Положение» могло произвести должное впечатление на читателя только после довольно пристального и продолжительного штудирования его и не могло поэтому вызвать какого-либо единодушного эксцесса по поводу его появления; очень естественно, что и у меня в памяти не осталось ничего экстраординарного, что могло бы характеризовать отношение к нему наших обывателей. Очевидным было только то, что «крепостники» чем более вчитывались в него, тем все таинственнее о чем-то друг с другом переговаривались и торопились принимать какие-то противодействующие «меры»; в близких же к нам кругах «Положение» обсуждалось, так сказать, «постатейно» и постепенно, вызывая то общее одобрение, то очень скептическое отношение. Передавая об этом, я уверен, что читатель не заподозрит, что и я, юнец, участвовал в этом «постатейном» обсуждении, в котором я в описываемый момент еще очень немногое мог понимать, и, конечно, передаю только мое общее впечатление.
Другой характерный факт имел место несколько позднее. Был у меня приятель-гимназистик, тоже сын чиновника, с которым мы очень часто любили вместе читать, беседовать по этому поводу и даже пробовали пописывать кое-что, особенно он, так как я пока еще относился к этому занятию индифферентно или по крайней мере боязливо, предпочитая секретно упражняться в писании стишков «по Кольцову» (которые мне тогда казались «самыми легкими»), и в то же время не стыдился еще списывать классные упражнения с тетрадок товарищей. Так вот, придя однажды к этому товарищу, я застал его за очень странным, если не сказать откровеннее, занятием. Перед НЕМ лежала стопка чистой почтовой бумаги, а рядом с ней другая, в которую он складывал уже каллиграфически написанные им какие-то письма, размером от 10 до 20 строк. Письма эти он копировал с десятка лежавших перед ним начерно набросанных чьей-то посторонней рукой различных образцов, а затем уже укладывал в стопки сообразно какому-то алфавитному списку. «Не хочешь ли помочь? – спросил он меня. – Ты ведь умеешь красиво и четко писать». – «Попробую. В чем дело?» – «А вот в чем: отцу заказано от начальства написать несколько сот благодарственных к царю-освободителю писем от имени крестьянских волостей по поводу манифеста девятнадцатого февраля… Ну, так понимаешь: очень просто – отец вот сочинил несколько образцов, а мне велел переписывать и, чтобы не все выходили уж очень одинаковы, поручил даже вносить и свои небольшие изменения или просто переставлять слова и фразы, только чтобы без смысла не вышло… Хочешь, так помогай. Отец обещал мне дать за это на книги… Только, чур, секрет!.. Никому ни слова… Это уж я только тебе… доверяю…» Дело предстояло во всех смыслах любопытное. «Попробуем!» – согласился я и с величайшим интересом стал вчитываться в образцы. Каждый из них заключал в себе первым делом заголовок: «От крестьян такой-то губернии, уезда и волости», затем обращение, на выразительность и строгую корректность которого обращалось особенное внимание и которое варьировалось в таком роде: «Всемилостивейший и великий государь-отец», или «Возлюбленный наш монарх, отец и покровитель», или в патриархальном тоне: «Батюшка царь!» и т. п. Дальше следовали уже самые верноподданнейшие излияния неизреченных благодарностей в стиле челобитных времен Алексея Михайловича. «Ну, вот тебе бумага, вот список волостей с буквы М… Качай!.. Если вздумаешь что написать по-другому – покажи мне», – сказал приятель, и мы весело принялись за дело, так как дозволение вносить свои вариации в текст образцов побуждало нас к некоему игривому творчеству, которое доставляло нам немало ребячески-школьнического развлечения. Проработав с час в помощь товарищу, я, уходя, спросил его: «Что ж, будут их крестьянам читать на сходах?» – «Ну, вот… еще канителиться!.. Прямо целой кипой отправят в Петербург – и шабаш!»