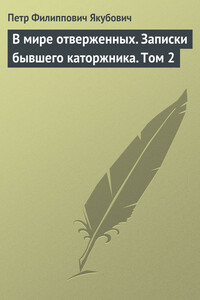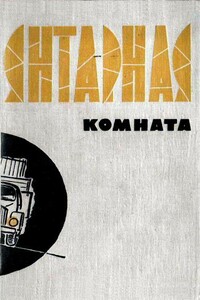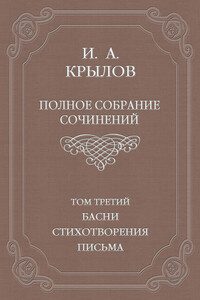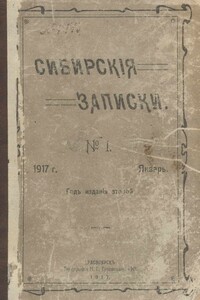Мы шли, спотыкаясь о земляные комья пашни, по заросшей розовою и белою кашкой и полевою рябиной меже. Кабан, заложив руки за спину и смотря вниз, говорил отрывисто. Я его не прерывал.
– В другой раз мужики говорят: «Хошь бы ты, Листарха, грабил, что ли, все бы за тобой настоящее дело имелось… Право, ну! Землей бы, что ли, маклачил, торговлей. Так бы уж тебя и понимали… А то чего ты только себе и другим глаза мозолишь?» И верно, и ве-ерно, братец! Книгу бы, что ли, какую божественную читать, и на то у меня ума нету: не учен! Богу молиться – и то об чем не придумаю, не знаю, чего просить (чего у нас нет!), не знаю, в чем каяться. Придумал было я тут одно дельце… Вдова у нас была тут с сынишкой; хотел было я его к себе во внучата приусыновить. Ну, воспретили мои-то господа, говорят: «Ты умрешь, а мы опосля того с ними разделывайся!» Придумаешь что ни то, а они воспрещают: «Это, – говорят, – у тебя, тятенька, ум от безделья играет… Чего тебе не хватает, чего тебе недостает? Живи да бога не гневи». И точно, думаешь, за что же я, в самом деле, бога-то буду гневить?
Каким-то странным, невероятным диссонансом звучали для меня эти речи Кабана – для меня, в русской деревне, где кругом кипел только безустанный труд или беспокойная жажда наживы… Впрочем, я должен оговориться: не подумайте, что «безделье» Кабана было наше «барское» безделье. Далеко нет. Это было безделье только относительное, особое деревенское безделье, «мужицкое». Если бы вы посмотрели на Кабана со стороны, он ничем не выделялся бы для вас из общей трудовой массы. Хозяйство шло у него своим порядком: две здоровые бабы-родственницы, одна уж пожилая, другая – косая девка, убирались около дома со скотиной, сам Кабан, наравне с другими мужиками, вставал до свету, пахал и бороновал, сеял и косил, возил снопы и молотил. Он делал решительно все и так же старательно, как всякий мужик, так же галдел на сходах и всею душой участвовал в мирских делах и дележах. И между тем тоскует о том, что он лишний деревенский человек, что он потерял смысл жизни. Страшное это слово – потерял смысл жизни! Вот жил человек, трудился, прожил полвека в этих безустанных трудах и заботах о первых необходимейших потребностях жизни, и вдруг, в благодарность за все это, ему отравили жизнь, у него отняли первоначальный смысл его жизни и взамен не дали ничего.
Вначале, пока погода стояла хорошая, мне приходилось почти целыми днями бывать на хуторе, а иногда и ночевать вместе с рабочими в шалаше. Поэтому бывал я в Больших Прорехах только урывками, на ночь, и только в праздники оставался на целый день. Тут-то я и беседовал преимущественно с одним Кабаном. Однажды, накануне праздника, я только что вернулся, отпустив плотников, и велел приготовить самовар. Самовар внес ко мне сам Кабан, по обыкновению, «благообразный», чистый, вымытый, – и теперь от него несло уже не только серым мылом, но и целою баней.
– Вот и я присяду, – сказал он со своею неизменною тоскующею улыбкой в усах, осторожно внося, вслед за самоваром, стакан специально уже для себя. – Не прогонишь?.. А то скажи, коли мешаю – я и уйду… Мне ведь что!.. Ведь от безделья я… Коли кто ничего не делает – и я кстати тут, а коли дело у кого есть – меня гони, гони прямо…
– Садись, садись… Я очень рад, – приглашал я. И мы повели неторопливую беседу о работах у меня на хуторе, о моих планах.
Так разговаривали мы, выпивая стакан за стаканом. В открытые настежь окна плыли на нас тихие, полупрозрачные сумерки, все пронизанные какими-то отрывочными, как будто откуда-то издалека долетавшими звуками засыпавшей деревенской улицы. Где-то далеко, забравшись в конопляники, беспокойно блеют две овцы. Жеребенок тяжело простучал копытами по улице и, высоко подняв голову, насторожив уши и сверкая большими красивыми глазами, пронесся на другой конец. Перекликнулись ребятишки. Вдруг, как будто из-под земли, послышались частые, прерывистые, глухие удары – вот они все ближе и ближе. Громко фыркнула лошадь. Кабан быстро обернулся лицом к окну.
– Во-о! во-о!.. Гляди! – закричал он, сияя ребячески всею своею «благообразною» физиономией: его серые глазки блестели и смеялись, серебристые усы и борода образовали вокруг рта какое-то лучезарное слияние; вся его коренастая фигура как-то нервически задвигалась, заходила рубаха на плечах и спине. – Во-о!.. во-о!.. Ах, драть ее на шест!.. Гляди! – кричал он, махая руками и притопывая, как будто собирался выскочить в окно. – Го-го-го!.. фю! фю!.. Ха-ха-ха!.. Го-го-го! – наконец засвистел, заорал, загоготал Кабан, перевесившись в окно, вслед пронесшемуся мимо нас табуну, собранному в «ночное».
Выходка Кабана была так неожиданна, что я, долго изумленно смотря на него, решительно не знал, чем объяснить это внезапное возбуждение: обыкновенно флегматичный, вялый, «вареный» Кабан был неузнаваем. Он еще долго смотрел, высунувшись всею широкою спиной, в окно и продолжал то посвистывать, то горячо толковать с остановившимися посередине улицы мужиками.
Наконец, с раскрасневшимся лицом и возбужденно бегавшими глазами, он обернулся ко мне.