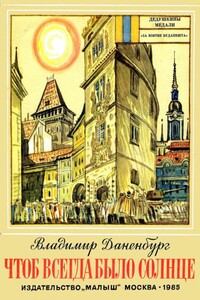Голос солдата - [93]
За металлической оградой отзвенели три звонка, медленно погасили свет, послышалась мелодия увертюры. Но никому из нас, по-моему, не пришло в голову, что пора поторопить Магомедова, что мы рискуем не попасть на спектакль. Так и ушли мы, впервые не добившись желаемого от театрального администратора. Напрасно тащились трамваем в центр города, напрасно я воевал с администратором…
7
Теперь мы с Митькой по вечерам сидели в своих палатах или болтались по госпиталю. Выходили на улицу, иногда стояли в толпе болельщиков у дома напротив, наблюдая, как два усатых азербайджанца азартно играют в нарды.
Хотя было и еще одно развлечение…
Чуть ли не каждый вечер после ужина, к нам в палату являлся со второго этажа Семен Гатенков. Широколицый дядька с прыщиком-носом, похожим на пуговку ухарской кепочки, он двигался боком, припадая на негнущуюся в колене ногу. Под мышкой у Гатенкова всегда была шахматная доска.
— Имеется настроение, — объявлял он от двери. — С кем?..
Моментально отзывался мой сосед слева Васька Хлопов, легкомысленный и азартный человек без царя в голове:
— Королеву форы даешь?
— Может, одного короля себе оставить? — иронизировал Гатенков. — Тебе, Васенька, по старой дружбе дам туру.
— Идет, — соглашался Хлопов. — По пятерке?
— Чего, чего? Время жалко. — Семен демонстративно хромал к выходу. — Найду кого интересней.
— Стой, гад! — кричал Васька. — Давай по десятке.
— Ты, Васенька, не больно словами-то кидайся. — Семен с оскорбленным видом поворачивал обратно, усаживался на кровать Хлопова и начинал расставлять фигуры.
Шахматистов обступали ходячие из нашей и других палат. Весь третий этаж болел за Ваську. Но он проигрывал партию за партией. Гатенков прятал выигранные десятки куда-то в потайной карман и после каждой партии порывался уйти, объявлял окружающим, что совесть ему не позволяет «накалывать лопуха». Но партнер ни за что не хотел его отпускать. Эти матчи обычно заканчивались Васькиным «психом». Он издавал матерный выкрик и расшвыривал по всей палате фигуры. Гатенков же, получив еще десятку, опускался на одно колено и принимался собирать коней, ладьи, пешки… Потом, все еще стоя на колене, пересчитывал фигуры, поднимался, втягивал голову в плечи и хромал из палаты. А Васька всякий раз повторял одно и то же: если бы он думал по стольку, по скольку думает Семен, его никто на свете «ни в жизнь бы не наколол»…
Я смертельно ненавидел Гатенкова и презирал Хлопова. Вообще было противно, что шахматы здесь низвели до уровня карт и играют на деньги. Однажды даже не удержался и высказался об этом вслух. Леонид Грушецкий — он только перенес очередную реампутацию культи и лежал, слабо постанывая, — ответил:
— Никому нельзя запретить быть дурнем.
Мы с Леонидом сдружились. Часто разговаривали, вспоминали довоенную жизнь. Родители Грушецкого были школьными учителями в Харькове, преподавали в старших классах историю, и он мечтал унаследовать их дело. Перед войной закончил первый курс истфака в пединституте. Бывший студент — одного этого было достаточно, чтобы я проникся к нему почтительностью.
До реампутации Грушецкий почти не ночевал в палате. Появлялся он обычно под утро. Мы, само собой разумеется, догадывались, что Леонид «уломал» Рубабу. Вообще-то сестра и сама этого не скрывала. Грушецкий же, в отличие от некоторых любителей порасписывать свои «подвиги», ни разу даже словом не обмолвился на этот счет. Он только добродушно подшучивал над Рубабой, чем доставлял ей радость…
Уходили похожие друг на друга, как шахматные пешки, госпитальные дни. Менялся народ в палате. Некоторые выписывались и уезжали домой, кое-кого переводили для лечения в специальные институты. Кого-то даже увезли в Москву.
Первого мая из репродуктора целый день разносилась почти забытая за четыре года войны ликующе-приподнятая музыка Дунаевского. Перед обедом в нашу палату явился Митька с поллитровкой. Мы втроем с Леонидом выпили по случаю праздника. Я — мне врачи строго-настрого запретили употреблять спиртное — был слегка навеселе и болтал всякую чепуху. Леонид и Митька посмеивались. Я замечал это, но не обижался. Наоборот, старался выглядеть пьяненьким, чтобы им было весело…
Семен Гатенков поднялся на третий этаж раньше привычного времени, сразу после обеда. Как всегда, остановился у двери с шахматной доской под мышкой, заметил бутылку из-под водки на моей тумбочке, понимающе подмигнул.
— Есть желающие? — поинтересовался он.
— Королеву даешь? — моментально отозвался Васька.
— Ну тебя!
Грушецкого вдруг развезло. Он валился то на Митьку, то на меня. Правда, глаза его казались нормальными. Но стоило Леониду поднять их на Семена, они становились туманно-сонными, как у совершенно опьяневшего.
— Имей совесть, Хлопов! — заплетающимся языком заговорил Грушецкий. — Од… один ты в палате, что… что ли? Я, мо… может быть, то… тоже хочу сы… сыграть с Сеней?..
Гатенков изумленно и подозрительно уставился на Грушецкого. Спьяну, что ли, «студенту» вздумалось играть в шахматы? По незнакомо озадаченному блиноподобному лицу Гатенкова можно было без труда догадаться, какого умственного напряжения стоит ему выбор партнера. Благоразумие все же взяло верх.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.
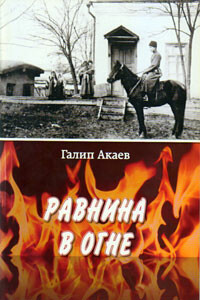
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.