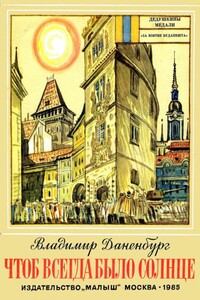Голос солдата - [79]
В Митьке чувство опасности развито необыкновенно. Он заранее предвидит приближение момента, когда разумнее всего поостеречься, переждать, уйти в кусты. Вот и сейчас Митька моментально уловил перемену в моем настроении, почувствовал, что допустил какой-то промах, из-за которого нарушилось безмятежно-плавное течение нашего разговора. Но на этот раз, отступив от своих правил, не ушел Митька в кусты — спросил:
— Ты, никак, рассерчал?
— А ты как думаешь! — резко ответил я. — Сколько раз просил — не трогай Галю?
— Что ты за человек, Славка! Она вишь как с тобой, а друг твой, выходит, не смей слова худого о ней сказать? Хоть серчай, хоть как, а я о Галке теперь не могу по-прежнему думать. Да и самому тебе след увидать, что она за человек…
Потолок в палате невысокий, сводчатый, стены — чуть ли не двухметровой толщины. Пять кроватей расставлены так тесно, что между ними еле-еле втиснуты тумбочки. До прихода советских войск здесь был женский монастырь. Сегодняшние палаты служили в те времена чем-то вроде квартир для монашек. И сейчас еще один флигель в госпитальном дворе занимают эти чудны́е безликие существа, торопливо пробегающие в своих черных допотопных одеяниях через госпитальный двор. Появление монашки встречается жеребячьим гоготом и не слишком пристойными выкриками гуляющих между клумбами раненых…
После ужина госпитальный двор особенно многолюден. Вечера стоят по-летнему теплые, и раненые, предвидя скорое свидание с дождями и холодами на родине, наслаждаются последним октябрьским теплом. Прогуливаются, опираясь на палочки или прыгая на костылях, по утоптанным дорожкам, скапливаются у крыльца. Слышатся выкрики, хохот, беззлобные ругательства.
По коридору мимо открытой двери палаты один за другим идут мои соседи по корпусу. А я сижу у стола, и передо мной лежит раскрытая на одной из первых страниц «Американская трагедия». Книгу пора уже сдавать в госпитальную библиотеку, а я все никак не могу вчитаться в нее.
Скоро придет Томочка. Она всегда раньше сделает все, что надо, в других палатах, а потом только появляется у меня. Я люблю эти минуты, мне нравится, как Томочка улыбается и подмигивает мне, приятно бывает, когда она, не обращая ни на кого внимания, проводит мягкой бархатной ладошкой по моей щеке. Я начинаю ожидать ее прихода с той минуты, когда она утром сдает дежурство и кричит нам в дверь:
— До свидания, ребятки! До вечера, Славик!
Не скажу, что весь день думал только о встрече с ней. Но чем бы ни был я занят, внутри у меня не переставая звучало, как задетая неосторожно струна, и неумолчное это звучание почему-то походило на сигнал тревоги. Временами становилось не по себе: что, если Томочке надоест приходить ко мне? Разве не может быть такого, что она посмотрит на меня снисходительно и усмехнется, как она умеет, равнодушно? А я распустил хвост, разболтал все Митьке. К вечеру я даже засомневался, не насочинял ли я самому себе всего того, что случилось, как мне казалось, между мною и Томочкой. Очень уж это не было похоже на правду: отчаянная красивая Томочка и я!..
Шагов ее я не услышал. Увлекся все-таки «Американской трагедией». Внезапно почувствовал чье-то присутствие за спиной. Мягкая ладошка ласково прошлась по моей щеке.
— Ну как ты, Славик? — спросила Томочка.
— Сижу, тебя жду.
— Ах ты, лопушок мой! Зачем же ты меня ждешь?
— Откуда мне знать? Жду, и все.
— Соскучился?
— Разве ты не понимаешь? — отвечаю и вдруг вспоминаю поучения Митьки: нельзя быть чересчур откровенным с Томочкой. Может быть, Митька прав. Но я не умею скрывать своих чувств и никогда, наверное, этому не научусь. — Разве ты не понимаешь? — повторяю, и мне приятно видеть, как она улыбается.
Томочка достает из-под халата пачку «Беломора», воровато оглядывается, закуривает и начинает разгонять руками дым. Потом берет со стола книгу.
— «Американская трагедия»? Интересная вещь? О любви? Тогда, видно, интересная. Я ужасно люблю читать о любви. По-моему, ничего нет на свете сильнее любви. Правильно я говорю, а, Славик? — Она смеется кокетливо. — Не смотри ты на меня так. Влюбился, лопушок? Ты скажи, не стесняйся.
— Я не умею об этом говорить.
— Даешь! Как же можно не уметь? Надо уметь, Славик, обязательно надо уметь. Таких, как я, чтоб сами все поняли, на свете мало. Всем другим прямо говорить надо. Понял? Смотри на него — застеснялся! Ну ладно, пойду. Посмотрю, что где делается. Надо народ укладывать. По двору чуть ли не все ходят.
Она ушла и возвратилась, когда было уже, наверное, больше двенадцати. Мои соседи спали. Она молча перестелила мою постель, помогла мне улечься, быстро поцеловала, погасила свет, опять возвратилась ко мне, шепнула: «Жди» — и выпорхнула в коридор, будто растаяла в пространстве.
Я был возбужден, меня чуть ли не била лихорадка от нетерпения. И все-таки волноваться не стоило — Томочка, я не сомневался, чувствовала на расстоянии это мое нетерпение и стремилась ко мне. Это было счастье…
Но его полноте мешало все более осознаваемое чувство вины перед Томочкой. Никак не удавалось вообразить ее близким человеком. Не мог я думать о Томочке так, как привык за месяцы госпитальной жизни думать о Гале. В том, что Томочка не заняла в моей душе Галиного места, было что-то постыдное, унижающее и меня и Томочку.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Пролетариат России, под руководством большевистской партии, во главе с ее гениальным вождем великим Лениным в октябре 1917 года совершил героический подвиг, освободив от эксплуатации и гнета капитала весь многонациональный народ нашей Родины. Взоры трудящихся устремляются к героической эпопее Октябрьской революции, к славным делам ее участников.Наряду с документами, ценным историческим материалом являются воспоминания старых большевиков. Они раскрывают конкретные, очень важные детали прошлого, наполняют нашу историческую литературу горячим дыханием эпохи, духом живой жизни, способствуют более обстоятельному и глубокому изучению героической борьбы Коммунистической партии за интересы народа.В настоящий сборник вошли воспоминания активных участников Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.

В предлагаемой вниманию читателей книге собраны очерки и краткие биографические справки о писателях, связанных своим рождением, жизнью или отдельными произведениями с дореволюционным и советским Зауральем.