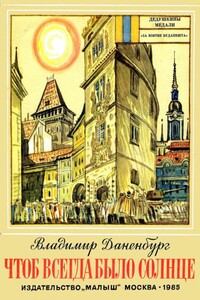Голос солдата - [115]
— Горелов! — Ислам-заде первым заметил меня. — Иди сюда, слушай, иди сюда. Вера Федоровна! — повернулся он к немолодой полнолицей хирургической сестре. — Давайте морфий. Все, товарищи! Кончаем разговоры! Всем быть готовыми!
И началось. Я, само собой разумеется, пациентом был искушенным. Знал, что за чем последует, и был готов ко всему. Меня уложили на узкий хирургический стол, накрыли простыней. И вот уже знакомой болью обожгло культю ниже локтя. Раз обожгло, другой, третий… Ощутил я, как дубеет и делается бесчувственной кожа на культе. И все-таки даже сквозь эту омертвелость просочилось движение скальпеля, рассекшего кожу и прошедшего от локтя до окончания культи. Сначала это было едва уловимое ощущение. Потом оно стало болью…
Духота в операционной была невыносимой. Кто-то сердобольный не уставал отирать ватой пот с моего лица. Как будто сквозь толщу воды, до слуха доходили чьи-то гудящие голоса. Боль делалась все мучительнее. Но я терпел. Ни в коем случае нельзя было мешать профессору.
— Внимание! — услышал я вдруг его голос.
Боль ударила в голову, и прозвучал мой стон.
— Ислам-заде! — взмолилась какая-то чувствительная студентка. — Зачем вы его мучаете? Дайте ему общий наркоз.
На мое потное лицо наложили удушливую маску. Я успел подумать: «Зачем теперь? Самое страшное уже позади…» И все куда-то ушло из юлой завертевшегося мозга.
…В себя я пришел в палате. Все вокруг плыло в светящемся тумане: голубое небо за окнами, окрашенные до середины зеленым стены с нацарапанными кем-то словами, белый потолок, лампочка на побеленном шнуре…
Медленно оживал рассудок. Теперь у меня вместо культи «рука Крукенберга», на которую я возлагал столько надежд. Какая она? Пока мне ее не увидеть. Усеченная рука опять укутана ватой и бинтом, и под повязкой не утихает боль.
Заглянуть бы под эту тугую повязку, посмотреть, что профессор Ислам-заде сотворил с моей культей! Удостовериться бы только, что не напрасно я добивался этой операции, не напрасно сейчас терплю боль. Нельзя! Надо ждать и терпеть.
— Как ты, Славка? — Я вижу над собой встревоженную конопатую Митькину физиономию. — Ничего? Слышь, Ленка, ничего!
Теперь вижу и Леночку. Она стоит позади Федосова в наброшенном поверх знакомого сарафанчика белом халате. На лице у нее страдание. Я пытаюсь улыбнуться ей. Но Леночкино лицо остается прежним. Улыбку мою она принимает, наверное, за гримасу боли и начинает нервно кусать ногти.
Появляется профессор Ислам-заде:
— Пришел в себя, да? Как самочувствие? Порядок! Отдыхать, слушай, надо! Спать надо. Посторонних прошу из палаты уйти. Надо дать человеку покой. Все, да!
Все уходят. Я закрываю глаза…
Наступил наконец час первой перевязки. Я с волнением наблюдал, как Вера Федоровна, хирургическая сестра, которая зачем-то оказалась в перевязочной, ловко сматывала бинт, как он превращался у нее в руках в аккуратный тугой валик. Она делала все артистично и быстро. Профессор следил за каждым ее движением и нетерпеливо покрикивал, как увлеченный ребенок, даже порывался отнять у нее бинт и делать перевязку вместо нее. Вера Федоровна рассердилась:
— Ислам-заде! Не мешайте! Сколько можно говорить?..
— Быстрее умеешь? Слушай, как возится…
В конце концов бинт был смотан и сняты марлевые салфетки. Я впервые увидел свою новую руку. Не скажу, что она привела меня в восторг. От локтя рогаткой расходились два тупых обрубка — это все, что осталось от культи. Не зажившие пока разрезы выглядели не слишком привлекательно. Теперь это была моя собственная рука, «рука Крукенберга»…
Я обвел взглядом набившихся в перевязочную врачей и сестер. На их лицах — поразительно, как такое могло быть! — не увидел я ни отвращения, ни брезгливости. В наступившей тишине было что-то коленопреклоненное. Первым высказался сам Ислам:
— Красиво получилось, да? Смотреть, слушай, приятно.
Он самолично скатал тугой валик из ваты, втиснул его между отделенными друг от друга костями, разрешающе кивнул Вере Федоровне. Операционная сестра принялась наново создавать из ваты и широкого бинта тугую ляльку…
Если не принимать в расчет, что преображенная культя была в повязке и что от самого слабого прикосновения к ней свет мерк от боли, в моем существовании ничего не изменилось. Я ходил вниз на массаж левых конечностей, подолгу разговаривал, если нам не мешали, с Леночкой в библиотеке, с Митькиной помощью играл в шахматы. Партнер у меня был один — Грушецкий. Выигрывал я у него настолько редко, что можно было по пальцам перечесть все мои успехи. Но если уж случалось мне выиграть, это вызывало бурное ликование всех болельщиков.
Леонида недолюбливали. А мне, наоборот, многое в нем все больше нравилось. Особенно то, что он и на излечении не забывал о главной цели своей жизни. Он каким-то образом доставал в республиканской библиотеке научные монографии по истории, что-то конспектировал. Для этой цели у него были специальные общие тетради в коленкоровом переплете.
Грушецкий превосходил всех, включая и врачей, своей начитанностью и образованностью. Он этим напоминает мне слепого Александра Смеянова. Нельзя угадать, каким человеком оказался бы сегодня Смеянов, не потеряй он зрение. Но он все-таки жил в моей памяти личностью особенной, ни с кем не сравнимой, человеком не в пример более интеллигентным, чем Леонид. Непорядочность Грушецкого в отношениях с Рубабой и Люсей выработала у меня в душе предубеждение против него, и я не в силах был перебороть в себе отчужденности к компанейскому и интересному человеку.

Граф Геннинг Фридрих фон-Бассевич (1680–1749) в продолжении целого ряда лет имел большое влияние на политические дела Севера, что давало ему возможность изобразить их в надлежащем свете и сообщить ключ к объяснению придворных тайн.Записки Бассевича вводят нас в самую середину Северной войны, когда Карл XII бездействовал в Бендерах, а полководцы его терпели поражения от русских. Перевес России был уже явный, но вместо решительных событий наступила неопределенная пора дипломатических сближений. Записки Бассевича именно тем преимущественно и важны, что излагают перед нами эту хитрую сеть договоров и сделок, которая разостлана была для уловления Петра Великого.Издание 1866 года, приведено к современной орфографии.

«Рассуждения о Греции» дают возможность получить общее впечатление об активности и целях российской политики в Греции в тот период. Оно складывается из описания действий российской миссии, их оценки, а также рекомендаций молодому греческому монарху.«Рассуждения о Греции» были написаны Персиани в 1835 году, когда он уже несколько лет находился в Греции и успел хорошо познакомиться с политической и экономической ситуацией в стране, обзавестись личными связями среди греческой политической элиты.Персиани решил составить обзор, оценивающий его деятельность, который, как он полагал, мог быть полезен лицам, определяющим российскую внешнюю политику в Греции.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.