Гибель всерьез - [89]
Мы спорили, позабыв о Бахе, кошка проскользнула в дверь и, мяукнув, сбежала, — Бетти перед пианино, я на софе с раскрытыми французскими журналами мод, которыми позаботился снабдить Бетти; французам, может, и нравится, запальчиво говорила она, удлинять платья теперь, когда война кончилась, но в Рёшвоге эта мода не приживется, ни за что! И она будет заказывать себе платья в Берлине, так-то вот!.. А фон дер Гольц… Вдруг Бетти тихонько ахнула. Я проследил за ее взглядом.
К стеклу прижалось детское личико. Славная круглая мордашка: веснушки, льняные волосы, освещенные сзади солнцем. Я почувствовал смутное беспокойство. Бетти от волнения заговорила по-немецки: «»[117] Боже правый, действительно — Лени стояла, смотрела на нас широко открытыми глазами и кривила рот, стараясь не разреветься. Бетти встала, Лени тут же исчезла. Так…
Бетти заговорила взволнованно и сбивчиво: — Это надо же! Лена Шульц, дочка крупного торговца пивом и минеральными водами из Бишвиллера. Болтушка, каких мало. Хорошо же мы будем выглядеть — она всем встречным-поперечным расскажет, что я сижу наедине с французом… Вы же знаете, у девчонок в этом возрасте в голове одни глупости, чего они только не выдумывают. Знаете, Пьер, пожалуй, лучше вам уйти.
И тут же, безо всякого перехода, словно вообще ничего не было: — А Шопен? Вы любите Шопена? Вот послушайте. — И она заиграла. Что именно? Честное слово, не знаю. Не отличаю. Шопена от Шопена, я имею в виду. Или Шопена в Шопене, если вам так больше нравится. Нет, мы никогда больше не будем говорить о фон дер Гольце, клянусь. Но вообще-то у всех так. Во Франции одни, в Германии другие пристрастия. И расхожие мнения, которых поневоле наберешься. Бетти так переволновалась из-за Лениной рожицы в окне, что готова была простить мне многое, но все-таки надо же смотреть объективно: фон дер Гольц — настоящий герой.
Я поднялся и простился, под очень благовидным предлогом. Но она, вероятно, поняла. Должен признаться, Шопена она играет замечательно, нет, дело не в технике, а в проникновенности… и в завитках на шее, когда она поворачивает голову вслед за бегающими по клавишам пальцами. О чем это я? Да, у нее вьются волосы, но при чем тут Шопен? Ни при чем, но когда и завитки играют Шопена, они уже вовсе и не завитки.
Надо быть объективным. А если мне плевать на объективность?
О Шульцах я слышал. Говорили, что душой и сердцем они французы. До самого Страсбурга на дорогах мелькают грузовики «Шульц». Еще говорили, что родители поклялись выдать дочь только за француза. С хорошим приданым. Но мне-то зачем этом рассказывать? Вы думаете, мне интересно? Малютке твердили изо дня в день: погоди, вот придут французы… Я все сваливаю в одну кучу, но поставьте себя на мое место!
Теперь я припоминаю, откуда возник фон дер Гольц. Я попытался рассказать Бетти о прогулке Теодором. Однако история Фридерики Брион и все переживания в духе «Страданий молодого Вертера» в моем пересказе вдруг стали отдавать дурным вкусом и бестактностью — Бетти слушала меня неодобрением. Но и это только предлогом. Причина же заключалась в том, что ее учитель пения, немолодой уже человек, поселившийся в Страсбурге сразу после той войны и проживший в нем сорок лет, получил от эльзасского военного коменданта предписание в течение трех дней собраться и переселиться на родину. — И вы, вы считаете это справедливым?! — Но… он же немец и считал себя немцем… — Другого я и не — заключила она. — Ну уж… Мы долго выясняли, что считать справедливостью и несправедливостью. Человек жизнь прожил здесь, сроднился с погодой, красками, запахами. У него сложились свои привычки, пристрастия. А вы переселяете его за Рейн, и вся его жизнь меняется: другие зима и лето, другие цветы, другие женщины. Ведь жизнь — это то, что тебя окружает: вещи, мебель, воздух, воспоминания. И в три дня приказано со всем покончить, уничтожить, упаковать, но все не увезешь… Взять хоть рояль… учеников… мелкие каждодневные радости, цвет камней на дорогах, хоть это вроде бы и пустяки… Справедливость и несправедливость. Я чуть было не сказал, что так же несправедливо было приходить к нам и убивать французов, а все эти парни в траншеях, и много чего еще, но почувствовал — нет, нельзя: несправедливость несправедливостью не поправишь, и прикусил язык, а Бетти без малейшего стеснения воспользовалась моим молчанием, и слово за слово мы добрались до фон дер Гольца. Смешно, что именно его мы приняли так близко к сердцу. Какой-нибудь деревенский священник еще мог бы нарушить нашу идиллию, я понимаю, но фон дер Гольц?
Прошел, наверное, еще один день. Мы все катались на катке. Ну да, конечно же, с Бетти мы уже помирились. Даже марокканцы пришли, стояли и смотрели. Они, наверное, тоже не отказались бы выписывать восьмерки, да негде было научиться. Бетти попыталась вальсировать со мной, раз-два-три, раз-два-три, эй-эй, осторожней! Чуть не упали. Я замер на носочках — точь-в-точь мадам Замбелли из парижской Академии музыки и танца! Мимо проносятся взад-вперед мальчишки, согнувшись пополам и заложив руки за спину, шарфы вьются по воздуху. Я только успеваю уворачиваться. Солнца сегодня нет. Кусается мороз. Укушенные носы пламенеют. Бетти согревается песенкой: Röslein, Röslein roth — Röslein auf der Heiden

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
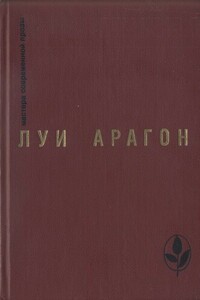
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
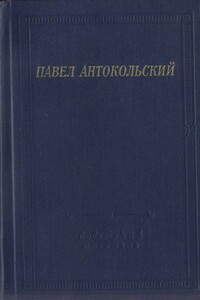
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

