Гибель всерьез - [90]
Весь шумановский «Карнавал» короче, чем чтение того, что я написал… но это только поверхностное замечание, первое, что бросается в глаза… Главное в том, что рассказанная мной история похожа на пригоршню росинок. Она — воспоминание, отсюда все неточности, все пробелы. Все слегка смещено. Я понял это, обратив внимание на детали, которые заметит каждый мало-мальски знающий Нижний Рейн. Рёшвог, и в этом можно убедиться, находится не так близко от Бишвиллера, чтобы девушки могли успеть обернуться за час, сходив туда и обратно. Наверняка Рёшвогом, где я был несколько раньше, память назвала мне Оберхоффен — пригород Бишвиллера. И наверняка я перепутал все, что касается передвижения наших войск по Эльзасу: мы действительно стояли в Бушвиллере, но тогда уж и вовсе неправдоподобной становится история с малюткой Шульц: кто-то должен был остановиться и у торговца пивом, но кто же именно? Что это был не я, говорю с полной ответственностью. Может, наш лекпом? Все считали, что мы с ним очень похожи. Тогда встреча с Беттиной в поезде должна была произойти неделей позже, уже после Рёшвога, но еще до того, как мы вошли в Страсбург. А вот с Теодором мы точно гуляли, когда стояли в Рёшвоге. Иначе не выходит: от Оберхоффена до Друзенгейма через Бишвиллер и Рорвиллер километров шесть-семь, то есть столько же, сколько от Зезенгейма до Друзенгейма. А от Рёшвога до Зезенгейма, судя по расписанию, километров десять. Из Рёшвога в Друзенгейм вполне можно добраться за день, с утра и до заката, но если бы, отправившись из Оберхоффена, мы навещали бы еще и Фор-Луи, то дорога удлинилась бы километров на пятнадцать. Это что касается географических неточностей. Но мало географии, столько же несуразностей и с персонажами. К примеру, Теодор — я только сейчас сообразил, что он попал к нам в дивизию не раньше января или февраля, когда нас направили в Саар. Вспомнил, прекрасно, но… кто же тогда жил в семействе Б. в Фор-Луи? И почему мне понадобилось, чтобы жил Теодор, а не кто-то другой? Тут вспоминается совсем другая история, стрелки в Друзенгейме выступили в ней совсем в другой роли, и был совсем другой хирург, и ночной пожар… Каким образом все истории слились в одну, и какая была для этого тайная необходимость?
(Маниакальная замена Оберхоффена Рёшвогом не нова у Антоана: лет девять тому назад он, а может быть, я написал о Рёшвоге стихи, и в них я отыскал новый повод для беспокойства:
Так какие же были глаза у Беттины, зеленые или черные)
Я все еще сидел в левой ложе в зале Гаво. Свечи в больших канделябрах одна за другой начинали мигать, коптить, таял воск, тонул фитиль и, опасаясь пожара, кто-то торопливо задувал огонек, так что свечей становилось все меньше, темнота сгущалась, а музыка продолжала звучать. Мне казалось, что темнота ярче света: прошлое сорокалетней давности выступало передо мной все отчетливей, и я углублялся в него, впрочем, нет, выбирался из его лабиринтов. И вдруг я обратил внимание на пару в ложе по-соседству, расположенной ближе к здешнему подобию сцены. Пока горел электрический свет, я никого не замечал.
Она… не буду говорить вам о ней. Ее знают все, и ее чарующая нежная красота с годами становится только проникновенней. Я не решился бы заговорить о ее глазах. Фотографиям я никогда не доверял. Но она на миг повернулась ко мне и посмотрела — вернее, широко распахнутые ее глаза заволокли меня, словно сон. Она не сняла манто, и, накинутое на плечи, бежевое с белым, оно делало ее царственно-величавой. Волосам своим она разрешила седеть и не снизошла до румян и туши, разве что — я видел — чуть освежила губы помадой, вопросительно взглянув на сидевшего возле нее мужчину, который в ответ кивнул. Его я узнал благодаря ей, разница между нами всего месяц, и я изменился не меньше него. Посмотри я на себя глазами 1918 года, догадался бы я, что вот это — я? Так вот каким стал лекпом из Рёшвога — если только это был Рёшвог — в 1962 году… вот что жизнь сделала с ним, с его лицом и душой. Я ни разу не видел его с тех пор, хотя имя встречал не однажды в газетах, и, зная, что это тот самый наш лекпом, который так намучился с марокканцами, всерьез ни разу не заинтересовался им. Сейчас, глядя на него, я понял, сколько украло у нас время. Украло лицо, тело, а главное — волнующее ощущение новизны мира. Он сидел неподалеку, положив руку на спинку соседнего стула, словно бы давая понять этой иллюзорной преградой, что женщина, которую, как все знали, он любит, по-прежнему под его защитой. Чуть наклонившись вперед, что он слушал? Игру Рихтера? Или близость своей Эльзы?

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
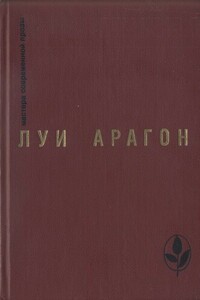
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
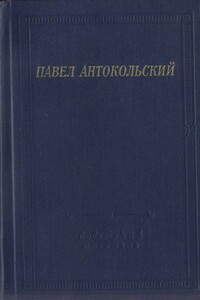
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

