Гёте - [25]
Он становится и философом. Посылка единства способностей необходимым образом взывает к другой посылке: философствовать не из книг, а из личного опыта. Суть шиллеровского возражения прекрасно понимает Гёте. «Все попытки решить проблему природы, — подтверждает он, — являются, по существу, лишь конфликтами мыслительной способности с созерцанием» (7, 2, 200). Но понимает он и другое, а именно причину этих конфликтов. Нам придется вспомнить в этой связи феномен слово-боязни Гёте. Вот еще одна, решающая выдержка: «Теории — это обычно результаты чрезмерной поспешности нетерпеливого рассудка, который охотно хотел бы избавиться от явлений и поэтому подсовывает на их место образы, понятия, часто даже одни слова» (7, 5, 376). Опыт, таким образом, оказывается отрезанным от самих вещей; вместо вещей он имеет дело со словами (разумеется, недоступными простому смертному), и философия становится не познанием мира, а своеобразным решением лингвистических кроссвордов. Как это происходит? Гёте и здесь предлагает четкий рентгеновский снимок: «При переходе от опыта к суждению… как раз и подстерегают человека, словно в ущелье, все его внутренние враги: воображение, нетерпение, поспешность, самодовольство, косность, формализм мысли, предвзятое мнение, лень, легкомыслие, непостоянство, и как бы вся эта толпа с ее свитой ни называлась» (7, 2, 15). Так вот, дело подлинно критической философии — контроль как раз над этим переходом. Переход от опыта к суждению ведь и есть переход от созерцания к мышлению, от опыта к идее. Отчего же случается конфликт? Отчего опыт не может быть адекватным идее? Отчего, наконец, возможным оказывается тезис: «Это не опыт, это идея»? Оттого, отвечает Гёте, что во всех поставленных вопросах нет, собственно, ни опыта, ни идеи, а есть лишь слова «опыт» и «идея». «Вместо того, чтобы становиться между природой и субъектом, наука пытается стать на место природы и постепенно делается столь же непонятной, как последняя» (9, 36(4), 162). А между тем «постоянно повторяемые фразы переходят, в конце концов, в окостенелые убеждения, органы же созерцания совершенно притупляются» (7, 1, 302). Оттого разрыв между опытом и идеей становится разрывом между практикой и теорией, и «то, что в теории кажется нам столь поразительным, практически мы видим ежедневно» (5, 2, 29).
О философии самого Канта Гёте выразился как раз в этом смысле. Она, по Гёте, лишена «выхода к объекту» (9, 49(4), 82), и причина этого в том, что она «принимает за объект субъективную возможность познания» (9, 11(2), 376), т. е. понятия, в конечном счете, слова. Понятно, что собственную философию он должен был начинать с очищения «авгиевых конюшен».
В первую очередь «макиавеллизм рефлексии» (7, 5, 366) безоговорочно уступает место сократической установке: я знаю то, что я ничего не знаю. Жизненный принцип: быть ничем — стать всем — становится принципом философским. Вся сумма философии, весь корпус традиции, до последнего понятия и представления, заключается в скобки с подведением под временный запрет, не потому, что речь идет о пренебрежении его значимостью, а с единственной целью воссоздания его в личном опыте. Как часто приходится, скажем, философски необразованной мысли, не стесненной никакими стереотипами и навыками и протекающей вне русла заведомо усвоенных терминов и понятий, самой прокладывать себе это русло и безотчетно «открывать» от века известные истины. И как часто образованной мысли не остается ничего другого, как указывать на первоисточники: «помилуйте, но это давно уже было сказано таким-то». Вот и прекрасно, что было, и давно. Давно уже было сказано всё, и поиск «первоисточника» — столь же безнадежная затея, как обгон элейской черепахи. На эрудита всегда найдется эрудит, и мысль, увиденная, скажем, у Шеллинга, обнаружится у Баадера, а еще раньше у Якова Бёме, Мейстера Экхарта, шартрских старцев, Плотина, не говоря уже о буддийских логиках и китайских даосах. Вспомним Гёте: «Право, надо очень уж глубоко увязнуть в филистерстве, чтобы придавать хоть малейшее значение таким вопросам» (3, 274). И вспомним еще поразительные слова, сказанные им тому же Эккерману: «Кант и на вас повлиял, хотя вы его не читали. Теперь он вам уже не нужен, ибо то, что он мог вам дать, вы уже имеете» (3, 233–234). Проблема философии заостряется в дилемму: либо знания философа индивидуализированы, либо он просто «запрограммирован» ими на манер небезызвестной «эпистемологии без познающего субъекта». Иначе говоря, является ли философия потребностью ума и сердца, или ею занимаются только потому, что случайно научились ее словарю? Но философский словарь должен быть предварен философским опытом. Опыт же, в смысле Гёте, ничем не предварен, кроме воли к познанию. Если философия предпосылает опыту что-то внеопытное (все равно, «привычки» Юма или «априорные основоположения» Канта), то она заведомо предписывает опыту правила осуществляться так, а не иначе. Мир проходит в таком опыте через призму предпосланной абстракции, и мысль постигает в мире не мир собственно, а свое отражение, которое затем приписывается миру как некая объективная характеристика. Так, скажем, сетует некий романтический поэт на глухоту и безразличие мира, а вместе с ним позволяет себе подобный же оборот и муж науки. «При рассмотрении природы, как в большом, так и в малом, — учит Гёте, — я непрерывно задавался вопросом: кто высказывается здесь, предмет или ты сам? И в этом смысле рассматривал я также предшественников и сотрудников» (7, 5, 352). Каким же образом добывается ответ? Путем строжайшего контролирования зоны перехода от опыта к суждению и разоблачения всех «внутренних врагов». Первое требование познания гласит у Гёте: познание должно быть свободно от познавательных предпосылок. Это значит, не примышлять ничего к явлениям, но дать им возможность самим обнаружить себя. Для этого прежде всего обеспечивается доступ к явлению. Устраняются все понятия, определения, термины, гипотезы, суждения; остается только чистый экран, изображающий непосредственный чувственный опыт. Такова, по Гёте, стадия достижения «эмпирического феномена». О ней и говорит он в уже известном нам отрывке: «Нет ничего труднее, чем брать вещи такими, каковы они суть на самом деле». Трудность связана с самой процедурой очищения опыта от «внутренних врагов». Достаточно взглянуть на какой-нибудь предмет и тщательно просмотреть природу его восприятия, чтобы обнаружить в самом восприятии избыток факторов, не имеющих еще никакой познавательной ценности. Говорят, например, что восприятие (пусть даже на уровне ощущения) субъективно; само по себе это утверждение ничего еще не значило бы, если бы из него не вырастали исполинских размеров недоразумения. Мы увидим еще в дальнейшем, что именно отсюда проистекала критика в адрес Гёте со стороны многих естествоиспытателей (в частности, Гельмгольца): он-де приписывает объективному миру субъективные ощущения цвета. Была определена даже соответствующая рубрикация: «

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.
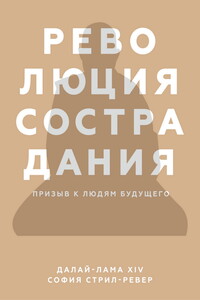
Убедительный и настойчивый призыв Далай-ламы к ровесникам XXI века — молодым людям: отринуть национальные, религиозные и социальные различия между людьми и сделать сострадание движущей энергией жизни.
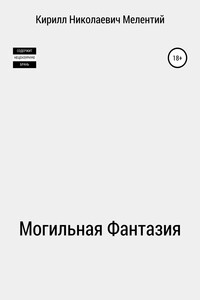
Самоубийство или суицид? Вы не увидите в этом рассказе простое понимание о смерти. Приятного Чтения. Содержит нецензурную брань.
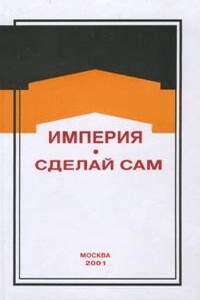
Автор, являющийся одним из руководителей Литературно-Философской группы «Бастион», рассматривает такого рода образования как центры кристаллизации при создании нового пассионарного суперэтноса, который создаст счастливую православную российскую Империю, где несогласных будут давить «во всем обществе снизу доверху», а «во властных и интеллектуальных структурах — не давить, а просто ампутировать».

Автор, кандидат исторических наук, на многочисленных примерах показывает, что империи в целом более устойчивые политические образования, нежели моноэтнические государства.
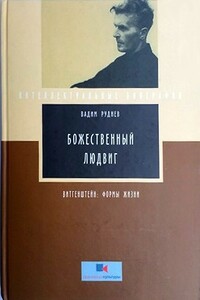
Книга представляет собой интеллектуальную биографию великого философа XX века. Это первая биография Витгенштейна, изданная на русском языке. Особенностью книги является то, что увлекательное изложение жизни Витгенштейна переплетается с интеллектуальными импровизациями автора (он назвал их «рассуждениями о формах жизни») на темы биографии Витгенштейна и его творчества, а также теоретическими экскурсами, посвященными основным произведениям великого австрийского философа. Для философов, логиков, филологов, семиотиков, лингвистов, для всех, кому дорого культурное наследие уходящего XX столетия.

В книге излагается жизненный и творческий путь замечательного русского философа и общественно-политического деятеля Д. И. Писарева, бесстрашно выступившего против реакционных порядков царской России. Автор раскрывает оригинальность философской концепции мыслителя, эволюцию его воззрений. В «Приложении» даются отрывки из произведений Д. И. Писарева.

В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.