Герцоги республики в эпоху переводов - [37]
— Почему же мы не можем найти язык?
— Французские интеллектуалы исходят из предвзятой идеологии и из своих политических убеждений»,
— отвечает Оливье Монжен.
По сравнению с конкретной задачей выработки адекватных понятий для современного политического дискурса вопрос о причинах, в силу которых возникла необходимость в создании нового языка, рассматривается как инструментальный, подчиненный. Потребность в новых понятиях очевидна интеллектуалам только в той мере, в какой речь идет о расширении и дополнении существующего понятийного аппарата, тогда как его основа — основа традиционного инструментария социальных наук — представляется им неизменно актуальной. Понятия социальных наук обозначают для них логический предел словотворчества. «В процессе отказа от европоцентризма социальным наукам потребуются новые термины и концепты. Поэтому необходим диалог между европейскими исследователями и исследователями из развивающихся стран, например Китая или Индии», — говорит Морис Эмар.
Нежелание задуматься над причинами немоты языка, столь послушного, гибкого и выразительного еще недавно, свидетельствует о неготовности принять глобальность перемен. Действительно, рассуждения ad hoc о кризисе понятий встречаются довольно часто[135]. С диагнозом нехватки или неадекватности старых понятий согласны все, но размышления о том, что привело к такой ситуации и что произойдет, когда старые понятия окончательно «откажут», остаются скорее случайной игрой ума, но не становятся предметом серьезного внимания. С правом таких вопросов на существование с готовностью соглашаются, но их не изучают даже самые увлеченные теоретическими новациями исследователи.
«— В последнее время историки все больше размышляют о возникновении нового режима исторической темпоральности, презентизма, который заставляет нас мыслить историю в терминах настоящего, практически сводя на нет значение прошлого и будущего для восприятия времени современным человеком. Как влияет презентизм на представление о временной триаде? Можем ли мы продолжать говорить сегодня о существовании прошлого, настоящего и будущего?
— Это интересный вопрос… Возможно, триады больше нет, но мы продолжаем функционировать согласно этим категориям. Это структуры повседневности для людей, для общества… В любом случае не найдено другого способа говорить об этом. Возможно, мы находимся в моменте, когда это уже не так, но когда это еще невозможно сформулировать иначе. Конечно, самым интересным было бы, если бы эти вечные категории, которые структурируют опыт общества, просто перестали бы функционировать. <…> Как говорить о времени, когда древние категории больше не удовлетворяют и не имеют основы в современной жизни, но новые еще не созданы? <…> Как найти новое определение для „до“ и „после“? Именно в этом вопрошании и отсутствии ответа должен сегодня работать историк»,
— размышляет Франсуа Артог.
Как случилось, что наш язык перестал нам повиноваться? Как возник разрыв между современностью и привычными понятиями? Ответ на эти вопросы, возможно, следует искать в изменении восприятия исторического времени, которое происходит на наших глазах.
Согласно одному из основателей немецкой школы истории понятий Райнхарту Козеллеку, европейское общество пережило настоящую понятийную катастрофу в эпоху Великой французской революции[136]. Возникшее в этот период новое восприятие исторического времени не только изменило видение истории, что привело к возникновению глобальной всемирной истории, но и повлекло за собой создание целого ряда новых понятий, оказавших огромное влияние на будущее европейского общества. Переломное время, Sattelzeit, предопределило ход истории. По Козеллеку, современникам Sattelzeit повезло больше, чем их потомкам: на долю первых выпало создавать футуристическую идеологию, основанную на оптимистическом видении будущего, тогда как пожинать ядовитые плоды этого проекта досталось следующим поколениям. В частности, возникновение в ходе Французской революции новых понятий, устремленных в будущее, значительно опередило, по словам Козеллека, исторический опыт немецкого народа. Понятия пришли извне, укоренились на неподготовленной почве и натворили немало бед.
Отдельные элементы конструкции Козеллека справедливо заслуживают критики[137]. Но его идея о том, что радикальное изменение видения исторического времени способно повлечь за собой формирование новых понятий, определяющих будущее, стала освоенной, чтобы не сказать классической фигурой мысли, прочно вошедшей в размышления историков.
Нельзя ли предположить, что ситуация, которую мы переживаем сегодня, противоположна той, которую описал Козеллек? Допустим, что сдвиг в восприятии времени, свидетелями которого мы являемся, оказался столь же существенным, как тот, который перенесла Европа в эпоху Французской революции. В таком случае, возможно, в отличие от предшествующего переворота, он вызвал когнитивный шок, помешавший плавному замещению старых понятий новыми. Может быть, особенность момента истории, который мы переживаем сегодня, как раз и состоит в том, что старые понятия больше не в силах описывать изменившийся мир, а новые еще не возникли? Может быть, в этом и заключается причина немоты языка, его непредвиденных каникул?
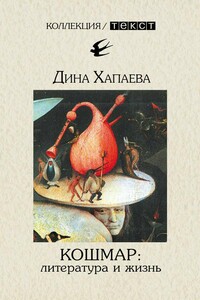
Что такое кошмар? Почему кошмары заполонили романы, фильмы, компьютерные игры, а переживание кошмара стало массовой потребностью в современной культуре? Психология, культурология, литературоведение не дают ответов на эти вопросы, поскольку кошмар никогда не рассматривался учеными как предмет, достойный серьезного внимания. Однако для авторов «романа ментальных состояний» кошмар был смыслом творчества. Н. Гоголь и Ч. Метьюрин, Ф. Достоевский и Т. Манн, Г. Лавкрафт и В. Пелевин ставили смелые опыты над своими героями и читателями, чтобы запечатлеть кошмар в своих произведениях.

Эта книга посвящена танатопатии — завороженности нашего общества смертью. Тридцать лет назад Хэллоуин не соперничал с Рождеством, «черный туризм» не был стремительно развивающейся индустрией, «шикарный труп» не диктовал стиль дешевой моды, «зеленые похороны» казались эксцентричным выбором одиночек, а вампиры, зомби, каннибалы и серийные убийцы не являлись любимыми героями публики от мала до велика. Став забавой, зрелище виртуальной насильственной смерти меняет наши представления о человеке, его месте среди других живых существ и о ценности человеческой жизни, равно как и о том, можно ли употреблять человека в пищу.
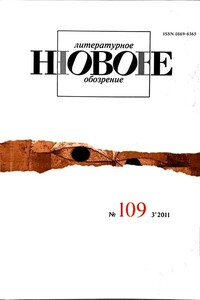
«Что говорит популярность вампиров о современной культуре и какую роль в ней играют вампиры? Каковы последствия вампиромании для человека? На эти вопросы я попытаюсь ответить в этой статье».

Был ли Дж. Р. Р. Толкин гуманистом или создателем готической эстетики, из которой нелюди и чудовища вытеснили человека? Повлиял ли готический роман на эстетические и моральные представления наших соотечественников, которые нашли свое выражение в культовых романах "Ночной Дозор" и "Таганский перекресток"? Как расстройство исторической памяти россиян, забвение преступлений советского прошлого сказываются на политических и социальных изменениях, идущих в современной России? И, наконец, связаны ли мрачные черты современного готического общества с тем, что объективное время науки "выходит из моды" и сменяется "темпоральностью кошмара" — представлением об обратимом, прерывном, субъективном времени?Таковы вопросы, которым посвящена новая книга историка и социолога Дины Хапаевой.

История науки и техники тюменского края и черты биографий замечательных инженеров и ученых, создавших своими научно-техническими достижениями всероссийский и мировой авторитет Тобольской губернии в минувшие столетия, мало известны широкому кругу современных читателей, особенно молодых. В книге рассказывается о наших земляках: строителях речных кораблей; электриках и механиках, заложивших в Сибири электростанции и водокачки; о создателях атомных ледоколов и первой атомной электростанции в Обнинске; самолетостроителях, впервые в мире построивших в Тюмени в годы войны «летающие» танки и реактивные истребители.

Тюмени – первому русскому городу в Сибири – исполнилось 425 лет. Сегодня в нем более семисот улиц, и у каждой, как у всякого человека, свое имя, своя судьба, своя тайна. Этих тайн за четыре с четвертью столетия накопилось немало. Адресована читателю, интересующемуся историей края.

Микроистория ставит задачей истолковать поведение человека в обстоятельствах, диктуемых властью. Ее цель — увидеть в нем актора, способного повлиять на ход событий и осознающего свою причастность к ним. Тем самым это направление исторической науки противостоит интеллектуальной традиции, в которой индивид понимается как часть некоей «народной массы», как пассивный объект, а не субъект исторического процесса. Альманах «Казус», основанный в 1996 году блистательным историком-медиевистом Юрием Львовичем Бессмертным и вызвавший огромный интерес в научном сообществе, был первой и долгое время оставался единственной площадкой для развития микроистории в России.

Книга, которую вы держите в руках, – о женщинах, которых эксплуатировали, подавляли, недооценивали – обо всех женщинах. Эта книга – о реальности, когда ты – женщина, и тебе приходится жить в мире, созданном для мужчин. О борьбе женщин за свои права, возможности и за реальность, где у женщин столько же прав, сколько у мужчин. Книга «Феминизм: наглядно. Большая книга о женской революции» раскрывает феминистскую идеологию и историю, проблемы, с которыми сталкиваются женщины, и закрывает все вопросы, сомнения и противоречия, связанные с феминизмом.

Сегодняшняя новостная повестка в России часто содержит в себе судебно-правовые темы. Но и без этого многим прекрасно известна особая роль суда присяжных: об этом напоминает и литературная классика («Воскресение» Толстого), и кинематограф («12 разгневанных мужчин», «JFK», «Тело как улика»). В своём тексте Боб Блэк показывает, что присяжные имеют возможность выступить против писанного закона – надо только знать как.

Что же такое жизнь? Кто же такой «Дед с сигарой»? Сколько же граней имеет то или иное? Зачем нужен человек, и какие же ошибки ему нужно совершить, чтобы познать всё наземное? Сколько человеку нужно думать и задумываться, чтобы превратиться в стихию и материю? И самое главное: Зачем всё это нужно?

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.