Герцоги республики в эпоху переводов - [33]
Представление о том, что история может сохраниться только как «правдоподобный», по выражению Поля Вейна[126], рассказ о прошлом, еще некоторое время назад радикально отвергавшееся профессиональной общиной, сегодня становится все более общепризнанным. И это тоже означает, что рост читательского интереса имеет мало общего с научными достижениями профессиональных историков.
Готовность историков смириться с мыслью о том, что история является прежде всего повествованием, выглядит запоздалым признанием уже состоявшегося возвращения к событийной истории, перехода от истории в стиле «Анналов» к анналам в прямом смысле слова. История-рассказ, история-перечень событий, лишенная претензий на объяснение их глобальных причин, — таков сегодня образ истории, привлекательный для читателя. Возвращение истории-летописи, для написания которой нужна не методология, а только несколько несложных технических навыков, наметилось задолго до того, как историки заметили это. История возвращается в «новом качестве» — рассказа, повествования, летописи, мемуаров, биографии. И история — социальная наука тщетно, ценой невероятных компромиссов старается пойти навстречу этой «старой истории». Здесь уместно напомнить о росте популярности работ историков-непрофессионалов (в том числе исторических романов, фильмов и т. д.), как и о том, что доля профессиональной историографии в общем объеме исторической продукции, публикуемой во Франции — стране, главном «экспортере» научной истории XX в., — крайне невелика. Интерес к истории-рассказу сродни спросу на философию — мораль: неспособность произвести новые идеи оборачивается для гуманитарного знания резким снижением его роли и значения в жизни общества, сводит его задачи к удовлетворению запросов читателей.
Не потому ли иссякает жизнеспособность социальных наук, что у них не остается ни своего собственного, особого предмета, ни собственных задач, ни особых вопросов, на которые они могли бы дать ответ обществу, все более и более утрачивающему к ним интерес? Может быть, мы присутствуем при столь же революционном, радикальном переделе территории познания, каким стало рождение самих социальных наук более ста лет назад?
Будущее без социальных наук?
О том, что социальные науки исчерпали себя, говорилось не раз, и не раз тому приводились более или менее веские причины. Например, Н. Е. Копосов показал, что лежавшая в основе социальных наук идея разума-культуры, т. е. «представление о социальном или культурном характере мышления» и о его тождестве с языком, завела современные социальные науки в тупик, проявившийся, в частности, в ловушках «лингвистического поворота». Этот последний рассматривается автором как «reductio ad absurdum проекта социальных наук, их логическое завершение, сопровождающееся обнаружением их внутренних противоречий, следовательно, их самоотрицание»[127].
Предположим, что проект социальных наук завершен. Что же может прийти им на смену? И можно ли помыслить наш современный мир, в котором практически каждый второй житель крупных городов имеет высшее образование, сама социальная структура которого не мыслима без среднего класса, составленного в основном из профессоров, преподавателей, исследователей, студентов, аспирантов, экспертов и консультантов всех родов, без социальных наук?
Как известно, функционирование социальных наук в последнее время стало вызывать целый ряд чисто социальных проблем, свидетельствующих о крайне нездоровом состоянии всего проекта. Так, в 1990 г. Петер Новик на примере функционирования исторической профессии в США показал, что кризис перепроизводства историков-специалистов повлек за собой не только узкую специализацию и фрагментацию исследований, но и резкое снижение качества научных работ, которые выходили из-под пера рядовых выпускников университета, собирающихся стать рядовыми профессорами, чтобы заполонить продукцией среднего качества полки университетских библиотек[128]. Анализируя аналогичные тенденции и, в частности, кадровую динамику в исторической профессии во Франции, Даниэль Рош в 1986 г. указывал на «кризис профессионального сознания», который становится следствием «распада общины историков». Анализ социологических параметров состояния среды историков привел автора к выводу о грядущем кризисе исторической дисциплины задолго до того, как этот диагноз стал общепризнанным:
«Кризис назревает, и если не будут приняты меры, дисциплина рискует оказаться серьезно затронутой той реальной диспропорцией, которая существует между современными потребностями исторического исследования и реальными возможностями ее развития во Франции…»[129]
Сегодня эти тенденции только усугубились. Во Франции перепроизводство профессиональных историков стало притчей во языцех. И хотя более удачливые с точки зрения профессионального трудоустройства социологи или психологи все еще продолжают находить работу на предприятиях, очевидно, что профессиональная безработица является прямым следствием бесперебойной работы университетов.
Социальные науки возникли как идеология среднего класса[130], позволившая ему не только обрести право на существование, но и обеспечившая массам «разночинцев» возможность стать «герцогами республики». Более того, она создала постоянный источник дохода для этой многочисленной социальной группы, одновременно дав ей орудие для самовоспроизводства — метод социальных наук, позволявший, при правильном его применении, достигать достаточно успешных результатов любому среднему представителю среднего класса. Массовое изготовление специалистов, готовых к применению массового интеллектуального продукта в стандартных ситуациях, — не в этом ли причины столь длительного и безусловного успеха у интеллектуалов марксизма, психоанализа, структурализма? Не в этом ли хотя бы отчасти кроется разгадка жажды парадигмы, смысл настоятельного поиска идейного единства? Не здесь ли таится секрет последовательного тяготения к унификации профессиональных школ на протяжении всей истории социальных наук, проявившегося в постоянно критикуемом, но неизбежном воспроизводстве «мандаритата»? Не здесь ли коренится причина изобретения профессионального жаргона, позволяющего скрыть неспособность к индивидуальному творчеству и самовыражению?
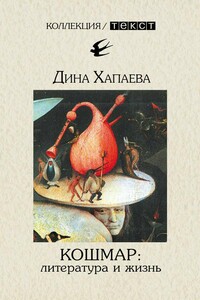
Что такое кошмар? Почему кошмары заполонили романы, фильмы, компьютерные игры, а переживание кошмара стало массовой потребностью в современной культуре? Психология, культурология, литературоведение не дают ответов на эти вопросы, поскольку кошмар никогда не рассматривался учеными как предмет, достойный серьезного внимания. Однако для авторов «романа ментальных состояний» кошмар был смыслом творчества. Н. Гоголь и Ч. Метьюрин, Ф. Достоевский и Т. Манн, Г. Лавкрафт и В. Пелевин ставили смелые опыты над своими героями и читателями, чтобы запечатлеть кошмар в своих произведениях.

Эта книга посвящена танатопатии — завороженности нашего общества смертью. Тридцать лет назад Хэллоуин не соперничал с Рождеством, «черный туризм» не был стремительно развивающейся индустрией, «шикарный труп» не диктовал стиль дешевой моды, «зеленые похороны» казались эксцентричным выбором одиночек, а вампиры, зомби, каннибалы и серийные убийцы не являлись любимыми героями публики от мала до велика. Став забавой, зрелище виртуальной насильственной смерти меняет наши представления о человеке, его месте среди других живых существ и о ценности человеческой жизни, равно как и о том, можно ли употреблять человека в пищу.
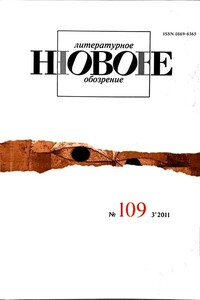
«Что говорит популярность вампиров о современной культуре и какую роль в ней играют вампиры? Каковы последствия вампиромании для человека? На эти вопросы я попытаюсь ответить в этой статье».

Был ли Дж. Р. Р. Толкин гуманистом или создателем готической эстетики, из которой нелюди и чудовища вытеснили человека? Повлиял ли готический роман на эстетические и моральные представления наших соотечественников, которые нашли свое выражение в культовых романах "Ночной Дозор" и "Таганский перекресток"? Как расстройство исторической памяти россиян, забвение преступлений советского прошлого сказываются на политических и социальных изменениях, идущих в современной России? И, наконец, связаны ли мрачные черты современного готического общества с тем, что объективное время науки "выходит из моды" и сменяется "темпоральностью кошмара" — представлением об обратимом, прерывном, субъективном времени?Таковы вопросы, которым посвящена новая книга историка и социолога Дины Хапаевой.

Микроистория ставит задачей истолковать поведение человека в обстоятельствах, диктуемых властью. Ее цель — увидеть в нем актора, способного повлиять на ход событий и осознающего свою причастность к ним. Тем самым это направление исторической науки противостоит интеллектуальной традиции, в которой индивид понимается как часть некоей «народной массы», как пассивный объект, а не субъект исторического процесса. Альманах «Казус», основанный в 1996 году блистательным историком-медиевистом Юрием Львовичем Бессмертным и вызвавший огромный интерес в научном сообществе, был первой и долгое время оставался единственной площадкой для развития микроистории в России.

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арендт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии.

Книга, которую вы держите в руках, – о женщинах, которых эксплуатировали, подавляли, недооценивали – обо всех женщинах. Эта книга – о реальности, когда ты – женщина, и тебе приходится жить в мире, созданном для мужчин. О борьбе женщин за свои права, возможности и за реальность, где у женщин столько же прав, сколько у мужчин. Книга «Феминизм: наглядно. Большая книга о женской революции» раскрывает феминистскую идеологию и историю, проблемы, с которыми сталкиваются женщины, и закрывает все вопросы, сомнения и противоречия, связанные с феминизмом.

На протяжении всего XX века в России происходили яркие и трагичные события. В их ряду великие стройки коммунизма, которые преобразили облик нашей страны, сделали ее одним из мировых лидеров в военном и технологическом отношении. Одним из таких амбициозных проектов стало строительство Трансарктической железной дороги. Задуманная при Александре III и воплощенная Иосифом Сталиным, эта магистраль должна была стать ключом к трем океанам — Атлантическому, Ледовитому и Тихому. Ее еще называли «сталинской», а иногда — «дорогой смерти».

Сегодняшняя новостная повестка в России часто содержит в себе судебно-правовые темы. Но и без этого многим прекрасно известна особая роль суда присяжных: об этом напоминает и литературная классика («Воскресение» Толстого), и кинематограф («12 разгневанных мужчин», «JFK», «Тело как улика»). В своём тексте Боб Блэк показывает, что присяжные имеют возможность выступить против писанного закона – надо только знать как.

Что же такое жизнь? Кто же такой «Дед с сигарой»? Сколько же граней имеет то или иное? Зачем нужен человек, и какие же ошибки ему нужно совершить, чтобы познать всё наземное? Сколько человеку нужно думать и задумываться, чтобы превратиться в стихию и материю? И самое главное: Зачем всё это нужно?

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.