...Где отчий дом - [37]
Я боюсь времени. Меня пугают места, не изменившиеся с детских лет (хорошо, что боярышник на пригорке срыли, не знаю, что стало бы со мной при виде его цветения). Тик-так, тик-так, тик-так, прохладный диск на левом запястье стрекочет невинно и бесхитростно, как кузнечик в траве...
Додо тренирует в спортшколе гимнасток. По утрам в зал, заливаясь смехом, сбегаются маленькие девочки и, как ласточки, порхают над гимнастическими снарядами; в полдень девочек сменяют стройные девушки, их молодой плоти тесно в ярких трико, они с красивой небрежностью делают свои упражнения, поглядывая подрисованными глазками то в зеркало во всю стену, то на улицу, где их дожидаются дружки; в вечером зал заполняют пожилые женщины из групп ОФП, тучные, бесформенные, с обвисшими животами и колышущимися грудями, они бегают грузной трусцой, охают, постанывают и, тщетно пытаясь унять одышку, уходят в ноч ь...
Когда-то мне казалось, что единственная защита от времени — дети... Может быть, в биологическом смысле они и продолжают нас, но, по совести, мало кто из окружающих так чужд мне, как мои дочки. Особенно с тех пор, как от них запахло барышнями. Темо Джакели — у него дети постарше, один уже разведенный — говорит, что родители для детей всего лишь среда обитания. Такова жизнь...
Неужели отец не боялся времени? Похоже, что так... Во всяком случае, он ни для кого не был «средой обитания»... Подле двери деревенского дома я увидел его соломенную шляпу с широкими полями. Это было прошлой осенью... Пахло дымом, подгоревшим хлебом, молодым вином. Деревья медленно облетали. Собаки стояли в залитых солнцем дворах и спокойно смотрели на меня...
В пору бесконечных гастролей я частенько проносился по шоссе мимо родной деревни, не сворачивая на ведущую вверх кремнистую проселочную. Я ехал по ущелью под горой, а гора громоздилась надо мной — грустный сверхвеликан, задумчиво сидящий у реки, высоко в поднебесье курчавилась его лесистая голова с проплешинами, а отчий дом стоял немножко левее и выше сердца. Я сигналил, настойчиво сигналил в надежде, что там, наверху услышат, хотя бы просто прислушаются к крику в ночи, я хотел дать знать о себе, но вместо обычного автомобильного «па-па!» мой холеный «Москвич», украшенный тигром, гейшей и олимпийскими кольцами, пел «Ариведерчи, Рома!», и этот звонкий иноязычный зов был так неуместен в промозглой декабрьской ночи или облачным октябрьским днем — зелень имеретинских гор подожжена, забрызгана кровью и залита йодом; серебрится неубранная кукуруза; по стерне язычком пламени бежит рыжая лиса; с высоты, на которую порой выносила машину петляющая дорога, это живописное месиво, это фантастическое густое варево, с неистовостью перемешанное кем-то, тревожило и волновало. Я сигналил, сигналил ущелью, родной горе и отчему дому, но сигнал мой пел чужую песню, гора над рекой хмурилась, и безмолвствовал отчий дом...
Однажды мы веселой компанией катили из Боржоми в Самтредиа. Оркестр уехал поездом, погрузив контрабас, ударные и реквизит иллюзиониста, а несколько человек сели со мной в машину. Всю дорогу хохмили и ржали, подкидывали мне остроты и темы для скетчей. Ржали, как в случном стойле, потому что остроты и темы были того самого пошиба, который особенно веселит тертых джазовых «мальчиков» в возрасте от тридцати до сорока. Лысеющих джазменов, еще не распрощавшихся с лихой молодостью, но уже учуявших тусклую старость. Проехали перевал, и вскоре подала голос наша речка, побежала рядышком с шоссе. Она бежала справа от дороги, потом, пропустив меня через мост, переместилась влево и так и перебегала всю дорогу, беспечно болтая. Я любил слушать ее. Я никогда не спешил в этих местах. Она провожала меня до самой нашей деревни и даже дальше и отпускала. Так и чудилось: катись, дескать, с богом, отрезанный ломоть!.. И вот в тот раз мы ехали вдоль нашей речки, и в ржании стареющих жеребцов я не слышал ее голоса, только поглядывал на нее, как на девушку, с которой не поговорить при посторонних. Мелькнул рассеченный водой монолит скалы — болтунья-болтунья, а с какой глыбищей справилась! В мутном зеркале на повороте отразилась встречная машина и следующий поворот. Один из моих пассажиров, Джемал-саксофонист, объявил, стараясь перекричать остальных: «Внимание! Мы приближаемся к историческим местам. В одной из этих деревень родился Джано Джанашиа, любимец публики!» — «И любитель публики, в особенности женской половины»,— вставил Лео по прозвищу Чубчик. «Каких он предпочитает женщин?»—полюбопытствовал Жоржик. И пошло. «Тоненьких».— «Нет, полненьких, с усиками над губой... И чтобы родинка где надо...» Алик Джибладзе — корнет-а-пистон, по прозвищу Суслик — перегнулся сзади ко мне и спросил: «Джано где твоя деревня?»—«Там»,— я кивнул на горы, безмолвные и строгие, в сумерках. Алик вынул из футляра свою знаменитую трубу — он никогда с ней не расставался,— выставил в приспущенное окно в направлении моего кивка и заиграл. Он начал тоскливый «Сан- Луи-блюз» и вдруг, не прерывая мелодии, выкрикнул фразу из шести нот, знакомую всем «лабухам». Ребята дружным реготом приветствовали выходку. Я, не глядя, хватил по раструбу, торчащему слева. «Офонарел, Джано?! Как я сегодня играть буду! Останови машину!» Проносимся мимо скалы, из которой сочится родник. Стекает по проточенному годами желобку. Родник не виден с дороги, но я знаю о нем. Я проезжаю мимо, хотя холодная примочка избавила бы Алика отболи...
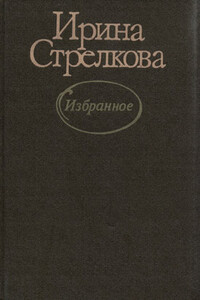
«Появление первой синички означало, что в Москве глубокая осень, Алексею Александровичу пора в привычную дорогу. Алексей Александрович отправляется в свою юность, в отчий дом, где честно прожили свой век несколько поколений Кашиных».
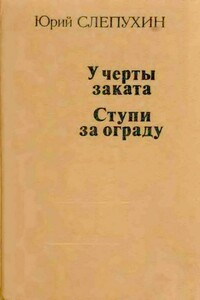
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

…Человеку по-настоящему интересен только человек. И автора куда больше романских соборов, готических колоколен и часовен привлекал многоугольник семейной жизни его гостеприимных французских хозяев.