...Где отчий дом - [32]
Чего я не переношу, так это одиночества за рулем. Посади рядом хоть милиционера, хоть инспектора ГАИ... Иной раз до того додумаешься, что остановишься на обочине и стоишь, пока не отпустит, слушаешь, как птички в лесу пересвистываются, а в ущелье речка ворчит...
Все могло сложиться иначе... Могло, но не сложилось...
В то утро я собрал на берегу свои останки, запихал их в штаны и рубаху и поехал назад, в деревню.
Неделю я молча вкалывал в отцовском винограднике, а вечерами также молча пил вино, пока хмель не распирал голову и не возносил ее к потолку, как шар: голова покачивалась под потолком на стебельке шеи, об нее колотились мотыльки и бабочки, и все кругом делалось полым.
В таком состоянии я поехал в Тбилиси. Их квартира в пол-этажа была заперта на пять замков и зарешечена. Я зачем-то попытался взломать решетку, из этого ничего не вышло. Тогда всю злость я выплеснул в письмо. Яркий образец бесцензурной печати! Не выбирая выражений, а точнее, в отборных выражениях, самых крепких из известных в нашей деревне, я высказал в нем все, что думал о Жабе, его фильмах, его сомнительных заслугах перед Госкино и прочими органами, а так же студентами, вынужденными слушать громогласные свидетельства его идиотизма, о его беспородном даре, смердящем за версту, и породистой супруге, в поте лица и тела зарабатывающей для него премии и регалии. Я не забыл ни одной его слабости, даже хронического насморка. Скорее всего, письмо не сохранилось в бесценных архивах адресата, а жаль...
В деревне после поездки я уже не напивался вечерами й не морил себя работой, я играл с братишкой в футбол и нарды, водил его с собой на речку и на охоту. Рана заживала. Боль с каждым днем уменьшалась, спрессовываясь в литой комок над солнечным сплетением.
В сентябре я вернулся в Тбилиси. В игрушечных двориках на нашей улице поспевали инжир и виноград, опадали перестоявшие розы; под тутовым деревом тенью на солнце темнело лиловое пятно. Железная лестница заныла под моими шагами. Осторожно, словно снимая присохшую повязку, я отпер дверь. В комнате все было по-старому. Бедно пахло пылью и известкой. На столе, на подушке и на подоконнике я обнаружил россыпь повесток из военкомата: «Иметь при себе... Место сбора...» — и так далее. Вяло полюбопытствовав: «Как же так? Разве в армию призывают студентов?» — я узнал, что меня исключили из театрального «за неуспеваемость и хулиганское поведение, выразившееся в оскорблении преподавателя института, заслуженного деятеля и пр.».
Да-а... Отсверкало лето, настала осень. Теперь осенний мусор быстро вывозят из города, а тогда опавшие листья заваливали улицы. Грустно было брести вдоль тротуара, грея руки в карманах брюк, загребая ворохи листвы и вдыхая предзимний воздух.
Холодным ноябрьским утром эшелон с новобранцами отошел от Навтлуга и через залитые солнцем просторы Кахетии ринулся к Каспию, чтобд>1 у моря свернуть на север. И долго под стук колес пиликали гармошки, бренчали гитары, и добрый майор с лицом усталого мерина унимал возбужденных парней: «Ох и бедовые хлопцы! Ничего, армия вас научит...»
Армия многому меня научила. Но полезнейшим из ее уроков я считаю новое восприятие времени, мою теорию относительности. У человека в голове нет тикающих колесиков, поэтому время в нем частенько деформируется. Каждый день армейской службы растягивался чуть ли не в неделю, неделя разрасталась в месяц, месяц в год, и три года представлялись изнутри едва ли не половиной жизни. А после «дембеля» это же время снаружи, из новой жиз ни вдруг спрессовалось, превратившись словно бы в три плотных, тяжелых, как снаряды, месяца...
Положа руку на сердце, таких ли уж тяжелых?.. А Люба Булавкина? Любовь Алексеевна — полненькая, умненькая, с большими пугливыми глазами за стеклами очков. Она заведывала клубом. Раз, застав ее в плохом настроении, я разыграл перед ней пантомиму, пародию: «Из жизни нашей части». Кое-что из этой пантомимы я показывал на солдатских вечерах, но в лучшей сцене пародировались командир полка и начальник строевой службы, и, конечно, она не предназначалась для публичного исполнения. Во всяком случае, на сцене нашего клуба.
Командиром у нас был старичок подполковник с ликом тихим и кротким; когда он снимал фуражку, мне чудился нимб вокруг его седенькой головки. А по строевой части распоряжался майор лет сорока. За три армейских года я не встречал никого, кто с таким рвением, удовольствием, да что там, прямо-таки с упоением выполнял бы армейские ритуалы. Вся эта шагистика — построения, рапорты, маршировки — доставляла ему наслаждение. Не очень-то заметный в периоды обыденной службы, в парадные дни он преображался. Когда пела труба и гремел барабан, он весь подбирался и вырастал на глазах, а его оттопыренные уши, ну, ей-богу же, плотней прилегали к черепу. Природа обделила строевика фигурой — майор был невысок, кривоног и с брюшком, наискось перехваченным портупеей, но сколько души вкладывал он в слова команды, как чеканил шаг — подпрыгивал всем телом, точно от отдачи, и фуражка на голове подскакивала в такт шагам. Чего стоил властный, как бы чуть презрительный взгляд, которым он окидывал выстроившийся перед ним полк! Чего стоил голос — слегка в нос и врастяжку, глиссандо, как говорят тромбонисты!.. Столкновения этих двух характеров — старенького тихони с кротким голосом и нимбом вокруг головы и прирожденного вояки,— встречу на плацу на глазах у замершего по стойке «смирно» полка я и изобразил в своей пантомиме.
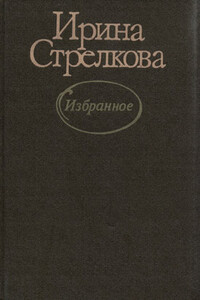
«Появление первой синички означало, что в Москве глубокая осень, Алексею Александровичу пора в привычную дорогу. Алексей Александрович отправляется в свою юность, в отчий дом, где честно прожили свой век несколько поколений Кашиных».
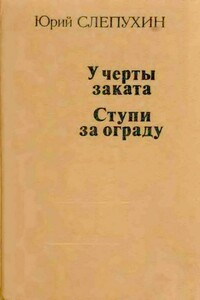
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

…Человеку по-настоящему интересен только человек. И автора куда больше романских соборов, готических колоколен и часовен привлекал многоугольник семейной жизни его гостеприимных французских хозяев.