Фея Хлебных Крошек - [71]
– Меня удивляет, Даниэль, что ты, так хорошо знакомый с моим гербарием, который я неоднократно вверял твоим попечениям, не смог уподобить этот цветок какому-нибудь из цветов, тебе известных, хотя очертания его, по твоим собственным словам, весьма четкие.
– Право, сударь, я бы сказал, что он точь-в-точь напоминает мандрагору!
– Об этом после, Даниэль, об этом после! Скажи-ка, не слишком ли ты засиделся за столом у плотника и успел ли прийти засветло к стенам арсенала, чтобы отыскать домик Феи Хлебных Крошек, что, впрочем, как тебе известно, дело очень нелегкое?…
– О сударь, будьте уверены, если бы он там был, я бы нашел его, будь он даже таким же маленьким, как плетеная клетка, в которой посвистывает коноплянка холодного сапожника, ибо глаза у меня зоркие, как у сервала, но в Гриноке ни единая живая душа не слыхала о Фее Хлебных Крошек, а что до ее домика возле арсенала, его, должно быть, разрушили господа военные инженеры.
– Но ты, по крайней мере, поужинал у мистрис Спикер, как я тебе велел?
– Заказавши горную ptarmigan и бутылку превосходного порто.
– В добрый час. Ты наверняка узнал там что-нибудь интересное?
– Узнал ли я что-нибудь?! Ну разумеется: из всех птиц, обитающих на земле и летающих в небесах, ptarmigan лучше всего сочетается с острым и ароматическим – я думаю, это самое подходящее слово – эстрагонным соусом.
– Речь вовсе не об этом, Даниэль. Не забыла ли мистрис Спикер Мишеля?…
– Забыть Мишеля! О, не подозревайте достойную женщину в столь тяжком грехе! Мне пришлось бы провести в Гриноке целую неделю, если бы я стал выслушивать все ее похвалы по его адресу, хотя об уме его она не слишком лестного мнения; но стоило мне упомянуть о том человеке с головой датского дога, про которого написано в вашей бумаге, как она чуть не выцарапала мне глаза. «И вы смеете нести этот вздор, имея дело со мной, урожденной Бэбил Бэббинг, вдовой Спикер! Вы, должно быть, пошли в матушку, Ниэль, коли у вас хватает дерзости говорить подобные глупости почтенной женщине, и я, право, не знаю, отчего я еще не спустила на вас этих двух бульдогов, которые лежат вон там в закутке, на соломенной подстилке». Тут я прекратил расспросы.
– Ты поступил совершенно правильно, Даниэль! А что сталось с Ионафасом?
– Ионафас скорее мертв, чем жив, сударь, но все-таки еще жив.
– Ничего удивительного! Изменник, я полагаю, вложил деньги не слишком удачно.
– Больше, сударь, вам ни о чем не угодно меня спросить? – осведомился Даниэль, помолчав.
– Чего же еще, Даниэль? Вели закладывать поскорее – и прочь из Шотландии!..
Отдыхая в Венеции от тягот долгого путешествия и забывая в пустой суете игорных домов квартала Ридотто те волнения, какие я пережил за несколько часов, проведенных в Глазго, я познакомился в кафе «Квадро» с серьезным и сосредоточенным господином, чья задумчивость заставила меня отказаться от предубеждения, вызванного поначалу его лицом. То был мужчина сухощавый, тощий, угловатый, с взглядом острым и, можно сказать, коническим, – а я, помимо взглядов прямых, признаю только взгляды расходящиеся, – с голосом высоким и ясным, речью отрывистой и резкой, движениями неукоснительно перпендикулярными и изохронными.[168] Некий безмолвный разговор, который он, казалось, беспрестанно вел с самим собою, не мог, по моему мнению, быть посвящен ничему иному, кроме суровых и мечтательных размышлений о некиих возвышенных нравственных истинах. Пару раз проведя с ним несколько минут в учтивой беседе, каковую я, однако, не решался длить из почтения к важным материям, занимавшим этого великого мужа, я узнал из фразы, которая вырвалась у него совершенно случайно и которую, должен признать, он немедля сопроводил самыми смиренными заверениями в собственной малости, настолько здраво оценивал он свою славу и налагаемую ею тяжкую ответственность, – так вот, я узнал, что он является членом академии лунатиков города Сиены и прибыл в Венецию затем, чтобы найти себе сторонников в двойном споре, который поделил ровно надвое членов этого славного собрания.
– Лунатики Сиены! – воскликнул я, увлекая его за собою на площадь Святого Марка, где утреннее солнце сияло всем своим венецианским блеском. – Вы говорите, лунатики Сиены? Неужели опытный разум рода людского идет вперед так стремительно? Неужели чувство и фантазия вновь возвращают себе то место среди почтенных занятий ума человеческого, которого им не следовало терять? О, сударь, ваша академия лунатиков скоро обзаведется отделениями во всех уголках мира, – впрочем, я не стал говорить ему о лунатиках из Глазго, – но скажите же мне, ради Бога, какие важные вопросы внесли разлад в собрание столь здравомыслящих мужей? Я сгораю от желания это узнать.
– Первый вопрос, – отвечал он с принужденной любезностью, – не так значителен, как вы полагаете; однако чем дальше проблема от интересов черни, тем скорее способна она с пользою занять досуг академиков. Мы обсуждаем, на чем жарил Диоген морских угрей в тот день, когда навлек на себя злые насмешки Аристиппа,[169] – на растительном масле или на сливочном.
– Клянусь согревающим нас солнцем, – отвечал я, глядя ему прямо в глаза, чтобы убедиться, что он не шутит, – если принять во внимание обычаи Древней Греции и тамошние цены, масло, скорее всего, было растительным, но я не дал бы и ломтика тыквы за то, чтобы это узнать.
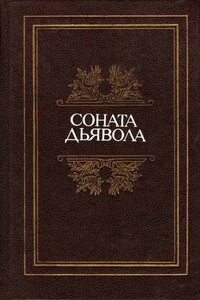
После 18 брюмера молодой дворянин-роялист смог вернуться из эмиграции в родной замок. Возобновляя знакомство с соседями, он повстречал Адель — бедную сироту, воспитанную из милости…
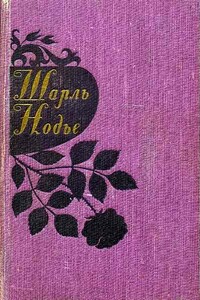
Шарль Нодье — фигура в истории французской литературы весьма своеобразная. Литературное творчество его неотделимо от истории французского романтизма — вместе с тем среди французских романтиков он всегда стоял особняком. Он был современником двух литературных «поколений» романтизма — и фактически не принадлежал ни к одному из них. Он был в романтизме своеобразным «первооткрывателем» — и всегда оказывался как бы в оппозиции к романтической литературе своего времени.Карл Мюнстер навеки разлучен со своей возлюбленной и пишет дневник переживаний страдающего сердца.

В сборнике представлены основные этапы ”библиофильского” творчества Шарля Нодье: 1812 год — первое издание книги ”Вопросы литературной законности”, рассказывающей, говоря словами русского критика О. Сомова, ”об уступке сочинений, о подменении имени сочинителя, о вставках чужих сочинений, о подделках, состоящих в точном подражании слогу известных писателей”; 1820-е годы — статьи (в первую очередь рецензии) в периодической печати; 1829 год — книга ”Заметки об одной небольшой библиотеке” (рассказ о редких и любопытных книгах из собственного собрания); 1834 год — основание вместе с издателем и книгопродавцем Ж. Ж. Тешне журнала ”Бюллетен дю библиофил” и публикация в нем многочисленных библиофильских статей; наконец, 1844 год — посмертная публикация рассказа ”Франциск Колумна”.Перевод с французского О. Э. Гринберг, М. А. Ильховской, В. А. Мильчиной.Составление, вступительная статья и примечания В. А. Мильчиной.Перевод стихотворных цитат, за исключением отмеченных в тексте случаев, М. С. Гринберга.
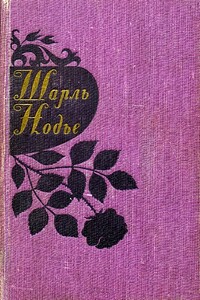
Шарль Нодье — фигура в истории французской литературы весьма своеобразная.Литературное творчество его неотделимо от истории французского романтизма — вместе с тем среди французских романтиков он всегда стоял особняком. Он был современником двух литературных «поколений» романтизма — и фактически не принадлежал ни к одному из них. Он был в романтизме своеобразным «первооткрывателем» — и всегда оказывался как бы в оппозиции к романтической литературе своего времени.Советский читатель знаком с творчеством Шарля Нодье по переводам «Жана Сбогара» и нескольких новелл; значительная часть этих переводов была опубликована еще в 1930-х годах.
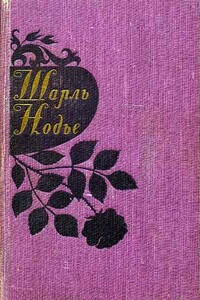
Шарль Нодье — фигура в истории французской литературы весьма своеобразная.Литературное творчество его неотделимо от истории французского романтизма — вместе с тем среди французских романтиков он всегда стоял особняком. Он был современником двух литературных «поколений» романтизма — и фактически не принадлежал ни к одному из них. Он был в романтизме своеобразным «первооткрывателем» — и всегда оказывался как бы в оппозиции к романтической литературе своего времени.Первый роман Ш. Нодье «Стелла, или Изгнанники» рассказывает о французском эмигранте, нашедшем любовь в хижине отшельника.
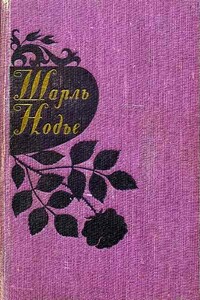
Шарль Нодье — фигура в истории французской литературы весьма своеобразная.Литературное творчество его неотделимо от истории французского романтизма — вместе с тем среди французских романтиков он всегда стоял особняком. Он был современником двух литературных «поколений» романтизма — и фактически не принадлежал ни к одному из них. Он был в романтизме своеобразным «первооткрывателем» — и всегда оказывался как бы в оппозиции к романтической литературе своего времени.Максим Одэн, рассказчик новеллы «Адель», вспоминает о своем участии в деятельности тайного итальянского общества и о прекрасной мадемуазель де Марсан, которая драматично связала свою судьбу с благородной борьбой народов, сопротивлявшихся захватам Наполеона.
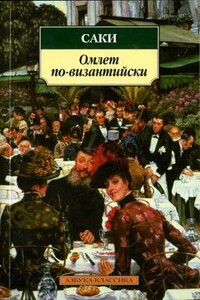
Вниманию читателей предлагается сборник рассказов английского писателя Гектора Хью Манро (1870), более известного под псевдонимом Саки (который на фарси означает «виночерпий», «кравчий» и, по-видимому, заимствован из поэзии Омара Хайяма). Эдвардианская Англия, в которой выпало жить автору, предстает на страницах его прозы в оболочке неуловимо тонкого юмора, то и дело приоткрывающего гротескные, абсурдные, порой даже мистические стороны внешне обыденного и благополучного бытия. Родившийся в Бирме и погибший во время Первой мировой войны во Франции, писатель испытывал особую любовь к России, в которой прожил около трех лет и которая стала местом действия многих его произведений.

После бала весьма пожилые участники вечера танцев возвращаются домой и — отправляются к безмятежным морям, к берегам безумной надежды, к любви и молодости.

Одноклассники поклялись встретиться спустя 50 лет в день начала занятий. Что им сказать друг другу?..
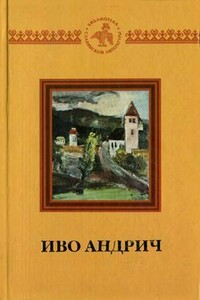
В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.
