Фея Хлебных Крошек - [70]
– Не тронь меня, палач, – вскричал я, оставив свою пуговицу в руках каннибала и устремившись за ворота с такой скоростью, словно за мною гнались все собаки острова Мэн.
– Вы поступали бы осмотрительнее, – продолжил я свою речь, обращаясь уже к привратнику лечебницы, – если бы держали самых опасных из ваших пациентов под более строгим надзором! Неужели равенства, к которому тщетно стремится род человеческий, нет и в лечебнице для умалишенных?
– Кого вы имеете в виду, сударь? – степенно осведомился привратник.
– Кого я имею в виду, мастер Кремп, кого я имею в виду? Разве это непонятно? Того ужасного человека в черном, из рук которого я вырвался лишь чудом! Неужели вы не видите, что он в любую минуту может выйти за ворота?
– Он имеет на это полное право, – заверил меня мастер Кремп. – Это знаменитый лондонский врач, прибывший в нашу лечебницу, дабы произвести филантропические наблюдения для усовершенствования науки и улучшения участи всех больных Соединенного королевства.
………………………………………………………………………………
О мудрейший из людей, о Тоби, где ваш жалобный присвист, где ваше «лила бурелло»?[166]
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
– Да, сударь, это совершеннейшая правда, – убеждал меня назавтра Даниэль Камерон, – лунатик, с которым вам, сударь, угодно было давеча так долго беседовать, исчез через несколько минут после того, как вы с ним расстались, и сторожа тщетно искали его всю ночь.
– Значит, он убежал, Даниэль, и слава Богу, – сказал я, приподнявшись на постели и подперев голову локтем. – Тебе более не грозят, бедный Мишель, ни смирительная рубашка, ни ножные и ручные кандалы, ни венесекция, ни прижигания, ни нарывные пластыри, ни горчичники, ни обливания холодной водой, ни рвотные и слабительные средства!
– Убежал, сударь? Как же мог он убежать из лечебницы для умалишенных – разве что улетел по воздуху, как говорят его товарищи, которые утверждают, будто видели, как он парил в небесах, подле шпиля католической церкви, держа в руках цветок и напевая песню настолько мелодичную, что непонятно было, кто именно поет – он или цветок.
– Это пел цветок, Даниэль, не сомневайся, хотя я прекрасно понимаю, что у тебя могут зародиться сомнения на сей счет, если ты вспомнишь, что у цветов нет щитовидно-аритеноидных связок, о чем ты, впрочем, наверняка не осведомлен. Но послушай, – продолжал я после того, как набросал несколько слов в своей тетради, – послушай, Даниэль, ты умеешь читать, однако ж это роковое следствие образования нимало не лишило тебя природного ума. Ступай же на берег Клайда, в порт, и закажи себе место на «Каледонце», или на «Эйре» или на «Фингале» – на любом судне, следующем в Гринок; поклонись за меня старой Бэклутской скале, на которой Уоллес[167] водрузил свое знамя, а завтра возвращайся назад и ответь мне на все мои вопросы: я записал их на этом листке, дабы не перегружать твою память. Да, вот еще что, Даниэль; возьми с собою золото и, после того как исполнишь все мои поручения, непременно отправляйся к мистрис Спикер и закажи себе на ужин горную ptarmigan и бутылку портвейна. А я покамест улягусь спать, ибо это наилучший способ препровождения времени в большом городе.
На следующее утро я проснулся лишь тогда, когда Даниэль, вертя в руках свою шапку из выдры, остановился подле моей постели в то же самое время и на том же самом месте, что и накануне.
– Это ты, Даниэль! Садись же и рассказывай все по порядку, – сказал я ему. – Прибыл ли Мишель в Гринок?
– По всему видно, что нет, сударь, если только феи, которым добрые люди из Глазго приписывают его освобождение, не сделали его невидимым. В Гриноке все помнят его, все о нем жалеют, все ему сочувствуют и все его любят, но никто его не видел с тех пор, как полгода назад он покинул город, оставив управление и все доходы от своих мастерских семейству мастера Файнвуда, и никто не получал о нем никаких вестей. Все боятся, что его уже нет на свете, и оплакивают его.
– Ты поступил совершенно правильно, Даниэль, решив не огорчать мастера Файнвуда унизительным известием о заключении Мишеля в лечебницу для умалишенных. Подчас сильнее, чем потеря друга, нас удручает мысль о незаслуженном позоре, обрушившемся на его голову. Но ты ничего не говоришь мне о том, как обстоят дела в этой плотницкой республике?
– Видеть ее – одно удовольствие. Они пригласили меня отобедать с ними, сударь, и клянусь вам, что ничего подобного не существовало никогда и нигде, даже в наших горных шотландских кланах древних времен. Вообразите себе папашу Файнвуда и его жену в окружении их шести дочерей и шести зятьев, шести сыновей и шести снох, а также дюжины крохотных внуков, ибо спустя девять месяцев в один и тот же день у всех дочерей мастера Файнвуда родились мальчики, которых назвали Мишелями, а у всех сыновей – девочки, которых назвали Мишлеттами, но самое великое чудо заключается в том, что у каждого из этих двенадцати младенцев на левой половине груди красуется восхитительный лесной цветок, такой яркий, что рука невольно тянется сорвать его. Явление это, должно быть, весьма редкое, ибо подобным знаком отмечен еще один-единственный ребенок в Гриноке, а возможно, и во всей Великобритании. Этот мальчик, родившийся в то же самое время, что и все внуки мастера Файнвуда, – сын некоей Фолли Герлфри и мастера-конопатчика.
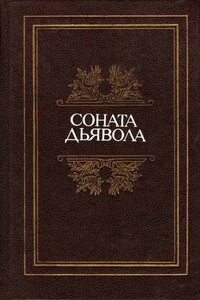
После 18 брюмера молодой дворянин-роялист смог вернуться из эмиграции в родной замок. Возобновляя знакомство с соседями, он повстречал Адель — бедную сироту, воспитанную из милости…
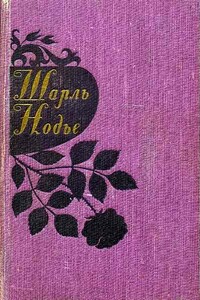
Шарль Нодье — фигура в истории французской литературы весьма своеобразная. Литературное творчество его неотделимо от истории французского романтизма — вместе с тем среди французских романтиков он всегда стоял особняком. Он был современником двух литературных «поколений» романтизма — и фактически не принадлежал ни к одному из них. Он был в романтизме своеобразным «первооткрывателем» — и всегда оказывался как бы в оппозиции к романтической литературе своего времени.Карл Мюнстер навеки разлучен со своей возлюбленной и пишет дневник переживаний страдающего сердца.

В сборнике представлены основные этапы ”библиофильского” творчества Шарля Нодье: 1812 год — первое издание книги ”Вопросы литературной законности”, рассказывающей, говоря словами русского критика О. Сомова, ”об уступке сочинений, о подменении имени сочинителя, о вставках чужих сочинений, о подделках, состоящих в точном подражании слогу известных писателей”; 1820-е годы — статьи (в первую очередь рецензии) в периодической печати; 1829 год — книга ”Заметки об одной небольшой библиотеке” (рассказ о редких и любопытных книгах из собственного собрания); 1834 год — основание вместе с издателем и книгопродавцем Ж. Ж. Тешне журнала ”Бюллетен дю библиофил” и публикация в нем многочисленных библиофильских статей; наконец, 1844 год — посмертная публикация рассказа ”Франциск Колумна”.Перевод с французского О. Э. Гринберг, М. А. Ильховской, В. А. Мильчиной.Составление, вступительная статья и примечания В. А. Мильчиной.Перевод стихотворных цитат, за исключением отмеченных в тексте случаев, М. С. Гринберга.
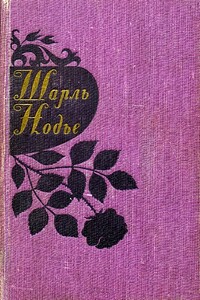
Шарль Нодье — фигура в истории французской литературы весьма своеобразная.Литературное творчество его неотделимо от истории французского романтизма — вместе с тем среди французских романтиков он всегда стоял особняком. Он был современником двух литературных «поколений» романтизма — и фактически не принадлежал ни к одному из них. Он был в романтизме своеобразным «первооткрывателем» — и всегда оказывался как бы в оппозиции к романтической литературе своего времени.Советский читатель знаком с творчеством Шарля Нодье по переводам «Жана Сбогара» и нескольких новелл; значительная часть этих переводов была опубликована еще в 1930-х годах.
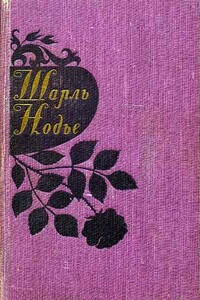
Шарль Нодье — фигура в истории французской литературы весьма своеобразная.Литературное творчество его неотделимо от истории французского романтизма — вместе с тем среди французских романтиков он всегда стоял особняком. Он был современником двух литературных «поколений» романтизма — и фактически не принадлежал ни к одному из них. Он был в романтизме своеобразным «первооткрывателем» — и всегда оказывался как бы в оппозиции к романтической литературе своего времени.Первый роман Ш. Нодье «Стелла, или Изгнанники» рассказывает о французском эмигранте, нашедшем любовь в хижине отшельника.
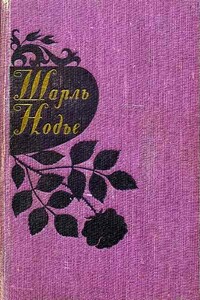
Шарль Нодье — фигура в истории французской литературы весьма своеобразная.Литературное творчество его неотделимо от истории французского романтизма — вместе с тем среди французских романтиков он всегда стоял особняком. Он был современником двух литературных «поколений» романтизма — и фактически не принадлежал ни к одному из них. Он был в романтизме своеобразным «первооткрывателем» — и всегда оказывался как бы в оппозиции к романтической литературе своего времени.Максим Одэн, рассказчик новеллы «Адель», вспоминает о своем участии в деятельности тайного итальянского общества и о прекрасной мадемуазель де Марсан, которая драматично связала свою судьбу с благородной борьбой народов, сопротивлявшихся захватам Наполеона.

Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965) — один из самых проницательных писателей в английской литературе XX века. Его называют «английским Мопассаном». Ведущая тема произведений Моэма — столкновение незаурядной творческой личности с обществом.Новелла «Сумка с книгами» была отклонена журналом «Космополитен» по причине «безнравственной» темы и впервые опубликована в составе одноименного сборника (1932).Собрание сочинений в девяти томах. Том 9. Издательство «Терра-Книжный клуб». Москва. 2001.Перевод с английского Н. Куняевой.

Они встретили этого мужчину, адвоката из Скенектеди, собирателя — так он сам себя называл — на корабле посреди Атлантики. За обедом он болтал без умолку, рассказывая, как, побывав в Париже, Риме, Лондоне и Москве, он привозил домой десятки тысяч редких томов, которые ему позволяла приобрести его адвокатская практика. Он без остановки рассказывал о том, как набил книгами все поместье. Он продолжал описывать, в какую кожу переплетены многие из его книг, расхваливать качество переплетов, бумаги и гарнитуры.
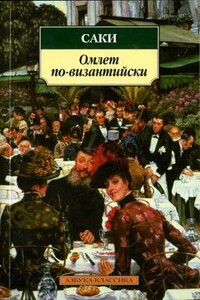
Вниманию читателей предлагается сборник рассказов английского писателя Гектора Хью Манро (1870), более известного под псевдонимом Саки (который на фарси означает «виночерпий», «кравчий» и, по-видимому, заимствован из поэзии Омара Хайяма). Эдвардианская Англия, в которой выпало жить автору, предстает на страницах его прозы в оболочке неуловимо тонкого юмора, то и дело приоткрывающего гротескные, абсурдные, порой даже мистические стороны внешне обыденного и благополучного бытия. Родившийся в Бирме и погибший во время Первой мировой войны во Франции, писатель испытывал особую любовь к России, в которой прожил около трех лет и которая стала местом действия многих его произведений.

Одноклассники поклялись встретиться спустя 50 лет в день начала занятий. Что им сказать друг другу?..
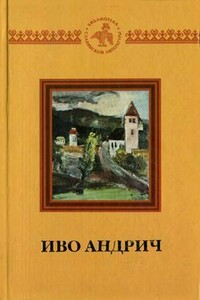
В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.
