Евпатий - [7]
— Ойе! Сайн байну!** — у самого уха сзади раздалось, не успел узел как следует довязать. — Не сон ли мы видим про анду Кокчу?
** С а й н б а й н у! — монгольское приветствие, пожелание здоровья.
И ещё что-то, ещё. Хриповатым однозвучным, счастливым для ушей Кокочу сипотком этим. И стоило обернуться — вот он, Лобсоголдой, стройно-красивый друг-анда в серебряноверхом мангае улыбается стоит!
От радости застыдившись, не обнялись даже. Лобсоголдой по плечу лишь чуть-чуть потрепал, устремляясь к Эсхель.
— Ну что, устала старушка? Забыла друга своего Эберту? А он не забыл, помнит... помнит любовь.
Кокочу слушал, и приятно было. И анда весел, и конёк его Эберту-унгун жив-здоров.
Перекинув, будто ненароком, узел на коновязи быстрой рукой, анда Лобсоголдой под брюхом у Эсхель-халиун ладонью пробежал. Под таким, как Кокочу наш, заподпружить можно и в недальнем пути.
— Постоит, — суховато обронил (Лобсо), — подседельник подсушит мал-мала, на кормёжку красавицу определим!
Пятистенка, в каковой анда с двумя другими вернымипроживает, сухая и чистая очень. В очаге на закопчённой цепи котёл с отогнутыми краями горячий ещё, но ни гость, ни хозяин отведать не пожелали пока.
Лобсоголдой, седло Эсхель-халиун под кошму подсунув, указательный палец к губам приложил. «Юрта пуста, да ушей в ней с полста...» И тихо-тихо прихохотнув, за рукав наружу вытянул Кокочу.
За огромно-чёрной юртой-гер, где припасы, на дровцах-чурочках расположились вдвоём.
Три давешних бавурчина ближе теперь оказались и с другого боку.
«Тот, кто третьим слева на скамье избранных подвизается...» Решил анде поначалу весть передать.
— Берке? — только и спросил, отслушав, анда, и красивое тонкое лицо потемнело от огорчения.
Кокочу кивнул: Берке, да.
— Волка нашего всякий знает, а волк наш, значит, знает не всякого! Изменился анда Лобсо. Где на верхней губе пушок только намечался, толстые чёрные волоски торчат.
Ну как наши поживают все? — спросил анда. Старый слепой любимый его Оточ как? Неужто впрямь девятый бубен уже? Бурулдай как? Хагала? Не забыли ли, мол, его-то, Лобсоголдоя? Спрашивал, а мысли, похоже, далеко гуляли у него.
— Ничего, — сказал в ответ. — Неплохо поживают. Вспоминают наши тебя.
Лобсоголдой, кивнув, поднял с земли прутик и стал по снегу стегать.
— Хагала спрашивал, не надумал ли Эберту-унгуна на его Черномордого менять? Для того-сего, говорит, у тебя Черномордый будет, а для наадома*, говорит, у орусутов добудешь в бою. Нам, мол, ойратам, мало достанется, а для верногосвоего Бык Хостоврул не то жеребца, бабу из-под чужого выдернет.
* Н а а д о м — праздник.
— Хагала у вас перелётный болтун! — усмехнулся Лобсоголдой. — Пускай Черномордый его ещё травки-муравки покушает-пожуёт.
Кокочу на такое лишь головой покачал. Брякни он про джагуна подобное, от него, Кокочу, и мокренького не осталось бы.
— Убьют меня, Лобсо? — сорвалось у него ни с того ни с сего.
— Нет! Не убьют. — Ответил, будто сам уже успел подумать об этом.
И прутиком опять — чирк-чирк — зачиркал, застегал по замусоренному дресвой снежку.
С кем в холод одним одеялом укрывались, с кем «не моя» кричали наперебой падавшей за горизонт звезде, вот он нынче сидит, рядышком, Кокочу! «Ах ты, дружок, — подумал. — Милый мой анда!»
— А сам-то ты как, Лобсо? Не скучаешь о нас? Нравится здесь?
Лобсоголдой лишь тёмным глазом вместо ответа покосил.
— Одинаково! — сказал, рукой махнув. — Спереди заманивают. Сзади погоняют. Что они придумать-то могут ещё?
Поднялся, отряхнул сзади дэл.
— Идём! Ждут не дождутся вести твоей. Уши прослушали, глаза прогля дели. Идем, Кокчу.
* * *
* *
Черновойлочная, пропитанная жиром шестистенка-урго* — логовище Быка Хостоврула. С сэлэмами** на плечах два заступивших в ночь кебтеула глаза пучат у двери. Третий, пожилой джалаирец, немного поодаль похлёбку из муки хлебает черпачком.
* У р г о — большая гостевая юрта.
**С э л э м — кривая монгольская сабля.
Лобсоголдой, наклонясь к самому уху, шепнул джалаирцу несколько слов. Тот доел, левой ладонью — губы, правой — лоб вытер и, не взглянув на Лобсоголдоя с Кокочу, влез под полог юрты ногами вперёд.
«Если страшно, — повторял в душе Кокочу, — пусть будет страшно. Пусть душа моя уподобится...» И не успел завершить, джалаирец с изменившимся строгим выраженьем в лице махнул из двери Лобсоголдою: «Хош!»*** Лобсоголдой нырнул под приподнятый им полог.
*** X о ш! — посыл сокола.
«Лучше аргал в дзут по загонам собирать, чем у нойонской юрты в ожидании стоять...» И ещё стал придумывать. «У далеких гор Алтан-Таг пасутся в степи Сара-Арки дикие куланы... В час макушки жары, когда, обезумев от слепней, верблюды, быки и запряжённые в телеги лошади кричали, как рожающие женщины, когда Льдистосерая Выдра дважды уносила скромного помощника кама в степь... в перхающую пылью степь... м-м... Где затлевающие куски... Где, как ослизевшие куски войлока и грязная ветошь, валялись не преданные ни огню, ни погребению... тела врагов, заскорбевший душой сточетырёхлетний Мэрген Оточ снял с багалы девятый бубен...»
— Эй, парень! Ойрат! Эй, не слышишь меня? Оглох?
Коричневолицый джалаирец звал, поманивая рукой, к страшной двери.
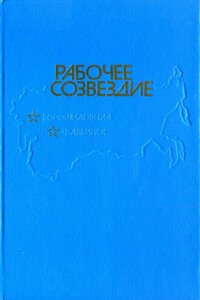
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
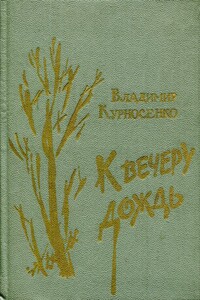
В книге, куда включены повесть «Сентябрь», ранее публиковавшаяся в журнале «Сибирские огни», и рассказы, автор ведет откровенный разговор о молодом современнике, об осмыслении им подлинных и мнимых ценностей, о долге человека перед обществом и совестью.

В книгу «Жена монаха» вошли повести и рассказы писателя, созданные в недавнее время. В повести «Свете тихий», «рисуя четыре судьбы, четыре характера, четыре опыта приобщения к вере, Курносенко смог рассказать о том, что такое глубинная Россия. С ее тоскливым прошлым, с ее "перестроечными " надеждами (и тогда же набирающим силу "новым " хамством), с ее туманным будущим. Никакой слащавости и наставительности нет и в помине. Растерянность, боль, надежда, дураковатый (но такой понятный) интеллигентско-неофитский энтузиазм, обездоленность деревенских старух, в воздухе развеянное безволие.

В книгу «Жена монаха» вошли повести и рассказы писателя, созданные в недавнее время. В повести «Свете тихий», «рисуя четыре судьбы, четыре характера, четыре опыта приобщения к вере, Курносенко смог рассказать о том, что такое глубинная Россия. С ее тоскливым прошлым, с ее "перестроечными " надеждами (и тогда же набирающим силу "новым " хамством), с ее туманным будущим. Никакой слащавости и наставительности нет и в помине. Растерянность, боль, надежда, дураковатый (но такой понятный) интеллигентско-неофитский энтузиазм, обездоленность деревенских старух, в воздухе развеянное безволие.

Владимир Курносенко - прежде челябинский, а ныне псковский житель. Его роман «Евпатий» номинирован на премию «Русский Букер» (1997), а повесть «Прекрасны лица спящих» вошла в шорт-лист премии имени Ивана Петровича Белкина (2004). «Сперва как врач-хирург, затем - как литератор, он понял очень простую, но многим и многим людям недоступную истину: прежде чем сделать операцию больному, надо самому почувствовать боль человеческую. А задача врача и вместе с нимлитератора - помочь убавить боль и уменьшить страдания человека» (Виктор Астафьев)
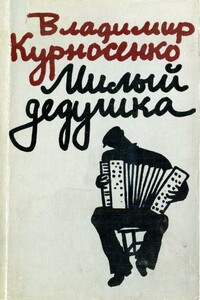
Молодой писатель из Челябинска в доверительной лирической форме стремится утвердить высокую моральную ответственность каждого человека не только за свою судьбу, но и за судьбы других людей.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга представляет собой философскую драму с элементами романтизма. Автор раскрывает нравственно-психологические отношения двух поколений на примере трагической судьбы отца – японского пленного офицера-самурая и его родного русского любимого сына. Интересны их глубокомысленные размышления о событиях, происходящих вокруг. Несмотря на весь трагизм, страдания и боль, выпавшие на долю отца, ему удалось сохранить рассудок, честь, благородство души и благодарное отношение ко всякому событию в жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся философией жизни и стремящихся к пониманию скрытой сути событий.
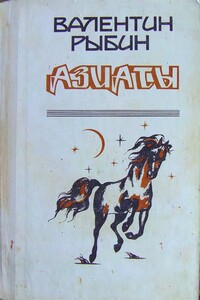
В основе романа народного писателя Туркменистана — жизнь ставропольских туркмен в XVIII веке, их служение Российскому государству.Главный герой романа Арслан — сын туркменского хана Берека — тесно связан с Астраханским губернатором. По приказу императрицы Анны Иоановны он отправляется в Туркмению за ахалтекинскими конями. Однако в пределы Туркмении вторгаются полчища Надир-шаха и гонец императрицы оказывается в сложнейшем положении.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.