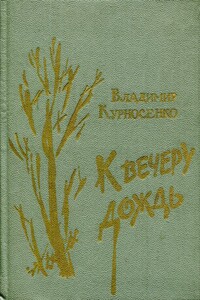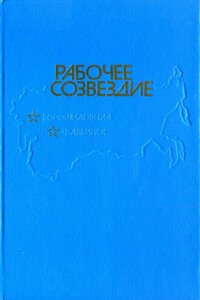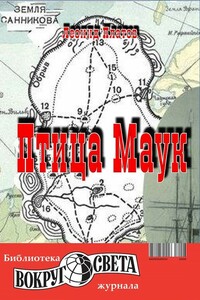Вытащил чемодан, снял с вешалки куртку (поезд уже сбавлял ход) и к окну — ну, давай! Красное кирпичное здание в копоти со времен еще паровозов, заводик старенький, подъемные краны во дворе, будка стрелочника, закапанные бурым маслом гальки между шпал… Знал ведь: будет. И вот — было. Изжитое, истертое когда-то глазами (изглаженное, хотелось бы сказать) входило снова, оттаивало по закоулочкам, воскресало. Вливалось старым вином в старый мех. И все он, мех, оказывается, помнил: и запах, и цвет, и вкус. Оглянулся, не выдержал, расплескиваясь, приглашал в свидетели, видите, это он, мой Город, видите! И соседка с нижней полки, баба в платке, в самом деле приподнялась: «Глянь-ка, дождь, поди-ка был?» — и села, отвернулась как прежде. Но кто-то все равно отделился от нее, прилип за спиною, дышал в ухо, слушал. Свидетель. Вижу, вижу, кивал свидетель, действительно Город, как же, как же! Вот это вот депо, показывал ему Женя (свидетель как бы дышал за плечом, а он ему показывал), — ходили сюда пацанами глядеть на поезда. Загадывали число вагонов — двадцать один, двадцать два, двадцать три. Кто угадает. А ночью по радио переругивались диспетчеры, раскатывалось над голыми путями их ПА-А-АБ-Б-Б-Б-БА-АБ-Б… а под железные двери депо тянуло сквозняком. И пахло углем, холодом, железом и бессонной ночью. Вот видите, эти вагоны, показывал Женя, шпалы колодцем, сваи… это и есть… и есть.
Тот (свидетель) грустно сочувствовал из-за плеча: я Вам сочувствую. Я Вам сочувствую.
Еще бы! И переезд, и худенькие эти деревца, и мост вон, и перрон… и перрон, где стояла Катя.
Она была в шлепанцах на босу ногу, на шлепанцах черные помпошки, а было холодно, осень была — как выскочила из дому, так и…
Поезд толкнулся в мягкое и затих.
Прибыли. Кто-то так и сказал в коридоре: «Прибыли…» А внутри еще ныло (та-та-тант), летело, не хотело, та-та-тант, остановиться. Еще, еще, еще. Хвостиком сна с открытыми глазами.
Маленькая, в затылок, очередь до тамбура, ах, скорей все-таки, ну, скорее! Вниз с высоких ступенек.
Встречают (нет, не его), смеются, выхватывают вещи. А там, за толпой, за новеньким поездом на первом пути мелькнуло уже, пыхнуло в глаза (забор? вокзал?) знакомое, детское опять и радостное — чего и не угадал бы и не знал раньше, а вот ведь помнил, помнил, оказывается, всегда. Ф-фух!
Два курсантика стукнулись с разбегу грудью и захлопали, забили друг дружку по погонам-плечам. Радость! Радость.
Подхватил чемодан, пошел. В затылке где-то лампочками: сбылось, свершилось, наконец. Граф Монте-Кристо после десятилетней разлуки прибыл в родной город. Ба! Ба! Прибыл. Вернулся. Возвращается. Идет. Входит. И да, да, конечно, теперь: медленно и не спешить. Граф желает вчувствоваться в это дело. Ощутить.
Ощущал.
Рядом со старым вокзалом новый, свежепостроенный. Белый, легкий, безейный какой-то. Скользнул по нему глазами, а кивнул, не удержался, старому, потеснившемуся (сутуловатый, проверенный на надежность отец рядом с дурковатым акселератом-сыном; сын — блондин), в котором, бывало, пили пиво, едали, бывало, беляши. Горячие, с мясом — пожалуйста, пожалуйста! В котором столько напроисходило всего. Катя, Катя прибегала сюда. «Здорово!», — кивнул, слегка бледнея, и без того бледнолицый граф старому обсыпавшемуся зданию, знакомому с детских графских лет. «Привет», — равнодушно моргнуло то, выплюнув из узенькой двери кавказского строгого человечка с авоськой. Нет, нет, не узнавая графа. Но все тот же, тот же это был старый вокзал — зелененький, — и спасибо ему.
Граф шел.
Через площадь, через скверик, по левой стороне улицы Свободы. И серое небо. И мокрый в трещинах асфальт. Пусто, чисто и пахнет пионерлагерем, где до горна еще два часа и бежишь в туалет по влажной от росы траве во вздетых через ремешки сандалиях. Где потом назад, под угретое одеяло… тяжелое, царапнет шею, спи, поспи еще, Женечка.
Дождь недавно прошел… это свежесть дождя…
Это свежесть и свежесть любви. («Господи, господи, да нужно ли так-то?»)
Четыре шага вдох, четыре — выдох.
Шел.
Аптека с гематогеном. Школа 121 с олимпиадой по физике. Продовольственный магазин с томатным соком, с серой солью на кончике ложечки (в отрочестве граф занимались фигурным катанием, пили после тренировки сок). И желтеющие листья на влажных после дождя тополях. Ну нет, никто никуда не уезжал. Он просто умер, а теперь народился опять. Нарождался.
Как трава нарождается каждой весной.
Наливается зеленью в сухие ее стебельки.
Да, это Твой Город. Любимая фланелевая рубаха, протертая в локтях. Молоко в алюминиевой маминой кружке.
Да, да. Да-да! И телефоны-автоматы в ряд честь отдают под козырек. Рады Вас приветствовать! Рады приветствовать! Мы рады Вас приветствовать сэр-р! Отсюда, с одного из них он звонил тогда Кате. Катя, сказал, я уезжаю. И черные потом ее помпошки на сером перроне, мокрые две собачки, и лицо ее, лицо ее — конус острием в темь.
Ничего никогда уже больше этого не будет.
А потом… по той вон улочке два квартала вверх и каток. Запах льда и белый в черном небе снег, проколотый прожекторами. Задний вираж полукругом, въезд в середину, взлет широким махом и… висеть, зависать на высоте трех с половиной метров (ну, хорошо: двух, двух с половиной), распластав ноги над далекой землей. Висеть. Секунду, две, три. Под музыку из кинофильма «Леон Гаррос ищет друга». Да, и плашмя потом об лед — «здз…» Так и объявляли в микрофон: Евгений Горкин. Первый юношеский разряд. Музыка из кинофильма «Леон Гаррос ищет друга». «Первый юношеский» в ту пору не звучало беспомощно, и музыка вызывала уважение, ее объявляли. Евгений Горкин заходил задним виражом по музыку («Ти-та-ти-та-та… Ту-ау-ау-ти!..») — ищет, ищет-де благородный покинутый Гаррос своего закадычного друга. Заходил и прыгал. Делал свой Прыжок.