К вечеру дождь - [2]
Пластинка была короче времени на произвольную, и с четвертой минуты Гаррос начинал все сначала.
Падал, падал…
Оп-па! (Это взлет). А потом «здз…» И поднимался, левой рукой отряхивал штаны на ягодицах, а правая, отбитая, повисала. Он же, настойчивый, упрямый француз Гаррос снова заходил — вираж, въезд… Ничего, кроме этого («прыжок во вращение» официально), делать он толком не умел. Вращался плохо: с треском, с крошем. Двойные выпрыгивал через раз на обе ноги. А тут получалось. Собственно, даже не «прыжок во вращение», а просто прыжок в никуда… Прыгнуть и зависнуть. И повисеть. Зрители не могли понять поначалу: нарушение законов? Гуттаперчевый мальчик? Фокус-покус? А он заходил на него, на свой коронный, и знал лучше всех: сколько раз он прыгнет, столько и шлепнется. Что-то изначальное, зародышевое делалось им не так. Потому-то и падал. Но потому и взлетал и парил потому. Расчета на приземление не было. А судьи, публика, да и сам он, краешком тоже всякий раз ждали чуда. Выпрыга из прыжка. Приземления. Выезда. И всякий раз маэстро падал. Была, стало быть, мера, граница какая-то, и он ее нарушал. Выпрыгивал из нее. Падение и было платой «за». И все же, когда на соревнованиях, в конце произвольной делал это, заходил, взлетал на свои три, зависал когда — тишина, ш-ш-ш, токала в ушах, не дышали на трибунах, затаивали дыхание. И потом, когда все же падал, — облегченное с выдохом «Ффу-у-у…» Будто он их всех пожалел. Сжалился над ними.
Похоже, после все пошло по той же схеме — и вираж, и въезд, и взлет, и «здз…» Разве прибавилось еще выражение на лице будто упал случайно. Будто, может, даже это и не ты — шлепнулся. И то: и первый его вуз (политехнический), оборванный на третьем курсе, и семейная нынешняя жизнь без детей, а стало быть вполне бессмысленная, и главное, главное «рисование» его, рисунки, в которых год от году труднее становится обманывать себя. Ну да… те же все вираж, въезд и «здз…». И хошь — заходи снова, а нет — снимай коньки, закон уже открыт. С Катей-то, по крайней мере, было так. Именно.
Теперь вот он приехал. И шел. И вспоминал. Он, кажется, желал попробовать снова.
Вираж…
Гостиница «Южный Урал».
Когда-то он приходил сюда в парикмахерскую. Из-за маленького роста ему не давали его пятнадцати, и он стеснялся. А кругом носили уже «канадку». Замирая, сесть в прохладное затертое чернокожее кресло и, да, да, сказать, пожалуйста, канадку, а мужичок-парикмахер в белом халате с диагональной вороньего крыла волной по темени (сам кудрявый или уложено так?) будет солидно над тобою кружить и стучать ножницами, по временам щурясь и откидываясь коротеньким туловищем назад. Неловко: такой серьез по такому поводу. А потом р-раз! простыня с шеи жестом тореадора и: «Пожалста!» и: «Спасибо!…» и «Пожалуйста…» и неизбежное — «Освежить?» М-мм… Освежал, освежал… до рубля. Куды было бороться! И кто б подумал тогда, в ту-то пору, что не пройдет и ста лет, и он приедет и пойдет мимо (оттуда, из закутка парикмахерской так и пахну́ло «Шипром»), поднимется по лестнице в пустой номер, где деревянные буржуйские кровати с мраморными простынями и клозет-т, и будет смотреть на улицу, где в урнах те еще, кажется, окурки, и так и надо и само собой, и, пожалуйста, можно и душ — по голубому кафелю стекают капельки воды… И внизу в ресторане мясо, кофе и свежая (дневная) улыбка официантки: заходите, заходите еще, мсье Монте-Кристо, и опять снова на улицы… на истоптанные легконогой твоей юностью, ею, ею. О, юность легкая моя!
Кинотеатр «Знамя».
Смотрели тут с Катей «Чапаева». Катя хваталась за рукав, а Чапаев стоял на дороге и молча смотрел, как уезжает Фурманов. Вокруг кричали, махали руками и шапками, а он стоял не шевелясь, расставив на пыльной дороге ноги, и что ему было до выражения чувств. Он их испытывал.
И библиотека.
Сюда можно было сбегать с уроков. Репродукции с Рембрандта, Брейгеля, с непостижимого ох Леонардо да Винчи.
И детский еще парк напротив школы. На физкультуре по этой вот аллее бегали стометровку, и Катя на финише кричала ликующим, захлебывающимся контральто: «Женька-Женька-Женька-Женька!!!». А на выпускном пили тут на лавочке портвейн, и он поцеловал ее, и ничего, ничего хорошего в самом деле в этом не было.
И вот здесь же, по Кирова, шли с Акимом и вели разговор. Зачем рисовать? Зачем? «Ну, скажи мне, зачем?» А Аким молчал и кривил, улыбаясь, свои умные губы. И знал ведь, поди, зачем. Он все тогда знал. Еще говорили о женщинах. О девушках. Взволнованно. Страшно. Окольными все путями. Боясь что-то там оскорбить. В замирающей целомудренной какой-то бесконечности. Ему, дураку, пятнадцать. Акиму семнадцать. А Кати еще нет. До Кати еще год и одно тысячелетие. До Кати разговор.
Улицы, дома… Тусклыми рыбами в сереньком воздухе-воде. Выступающие как в ванночке с ослабевшим проявителем. Было ли все? Не было? Снилось ему?
Броди, выбраживай. Пей его, Город свой. Погружайся. Дыши.
Вернись, поменяй назад кожу, душу, глаза… Возвернись назад, Женечка!
Нет, не очень-то выходило.
И к вечеру, к началу темноты, пришел все-таки к Дому.
…Сидел во дворе на лавочке. Глядел в подъезд. Там, в подъезде — вспоминал — было прохладно, там пахло мокрой пылью и не только осенью, как сейчас, но и в самую июльскую жару. Крикнешь, бывало, громко, на шестом этаже взбухнет, покатится вниз по лесенкам эхо, и тоже будто мокрое. Катю сюда приводил. Вот так же темнело и над двором (только нет их сейчас) — летали летучие мыши. Странные… Иногда казалось, это просто клочья тьмы, это ночь опускается клочьями, или это просто птицы, воробьи или стрижи, или вообще мерещится. Но это были мыши, мыши. Они метались над двором, вспархивали… Молнией, кленовым листом. Они чиркали собою по фиолетовому небу. Воздух шелестел. «Чего бояться? Обыкновенные летучие мыши…» Да, да, чего? Такие были смелые. Не боялись. Ни мышей, ни крокодилов — все, дескать, надобно в жизни испробовать. Однова живем! Мудрость мудрых мудрецов. О, господи! Принесли как-то простыню, растянули вон там у второго подъезда и поймали одну — разглядеть. Разглядывали… И в самом деле что-то тут такое. Что-то, что будто могло быть, а могло и не быть. Тайное. Жуткое. Только впусти его в себя. Голое… Перепончатое… Без дна, без перил. Из сна, когда сорвешься с крыши. Пропасть. Темь.
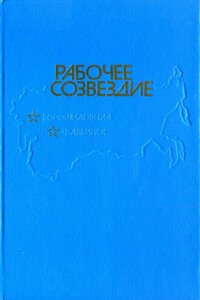
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу «Жена монаха» вошли повести и рассказы писателя, созданные в недавнее время. В повести «Свете тихий», «рисуя четыре судьбы, четыре характера, четыре опыта приобщения к вере, Курносенко смог рассказать о том, что такое глубинная Россия. С ее тоскливым прошлым, с ее "перестроечными " надеждами (и тогда же набирающим силу "новым " хамством), с ее туманным будущим. Никакой слащавости и наставительности нет и в помине. Растерянность, боль, надежда, дураковатый (но такой понятный) интеллигентско-неофитский энтузиазм, обездоленность деревенских старух, в воздухе развеянное безволие.

В книгу «Жена монаха» вошли повести и рассказы писателя, созданные в недавнее время. В повести «Свете тихий», «рисуя четыре судьбы, четыре характера, четыре опыта приобщения к вере, Курносенко смог рассказать о том, что такое глубинная Россия. С ее тоскливым прошлым, с ее "перестроечными " надеждами (и тогда же набирающим силу "новым " хамством), с ее туманным будущим. Никакой слащавости и наставительности нет и в помине. Растерянность, боль, надежда, дураковатый (но такой понятный) интеллигентско-неофитский энтузиазм, обездоленность деревенских старух, в воздухе развеянное безволие.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Владимир Курносенко - прежде челябинский, а ныне псковский житель. Его роман «Евпатий» номинирован на премию «Русский Букер» (1997), а повесть «Прекрасны лица спящих» вошла в шорт-лист премии имени Ивана Петровича Белкина (2004). «Сперва как врач-хирург, затем - как литератор, он понял очень простую, но многим и многим людям недоступную истину: прежде чем сделать операцию больному, надо самому почувствовать боль человеческую. А задача врача и вместе с нимлитератора - помочь убавить боль и уменьшить страдания человека» (Виктор Астафьев)
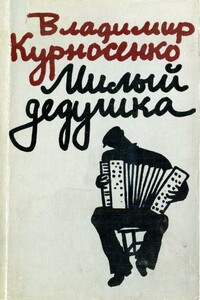
Молодой писатель из Челябинска в доверительной лирической форме стремится утвердить высокую моральную ответственность каждого человека не только за свою судьбу, но и за судьбы других людей.

Автобиографичные романы бывают разными. Порой – это воспоминания, воспроизведенные со скрупулезной точностью историка. Порой – мечтательные мемуары о душевных волнениях и перипетиях судьбы. А иногда – это настроение, которое ловишь в каждой строчке, отвлекаясь на форму, обтекая восприятием содержание. К третьей категории можно отнести «Верхом на звезде» Павла Антипова. На поверхности – рассказ о друзьях, чья молодость выпала на 2000-е годы. Они растут, шалят, ссорятся и мирятся, любят и чувствуют. Но это лишь оболочка смысла.
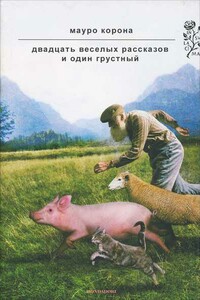
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
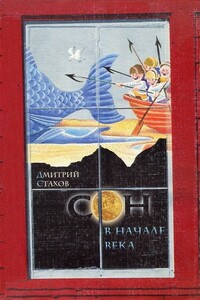
УДК 82-1/9 (31)ББК 84С11С 78Художник Леонид ЛюскинСтахов Дмитрий ЯковлевичСон в начале века : Роман, рассказы /Дмитрий Стахов. — «Олита», 2004. — 320 с.Рассказы и роман «История страданий бедолаги, или Семь путешествий Половинкина» (номинировался на премию «Русский бестселлер» в 2001 году), составляющие книгу «Сон в начале века», наполнены безудержным, безалаберным, сумасшедшим весельем. Весельем на фоне нарастающего абсурда, безумных сюжетных поворотов. Блестящий язык автора, обращение к фольклору — позволяют объемно изобразить сегодняшнюю жизнь...ISBN 5-98040-035-4© ЗАО «Олита»© Д.
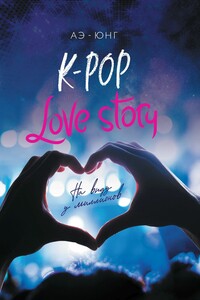
Элис давно хотела поработать на концертной площадке, и сразу после окончания школы она решает осуществить свою мечту. Судьба это или случайность, но за кулисами она становится невольным свидетелем ссоры между лидером ее любимой K-pop группы и их менеджером, которые бурно обсуждают шумиху вокруг личной жизни артиста. Разъяренный менеджер замечает девушку, и у него сразу же возникает идея, как успокоить фанатов и журналистов: нужно лишь разыграть любовь между Элис и айдолом миллионов. Но примет ли она это провокационное предложение, способное изменить ее жизнь? Догадаются ли все вокруг, что история невероятной любви – это виртуозная игра?
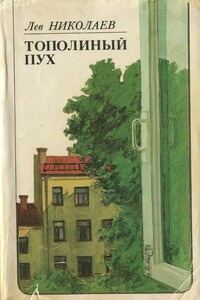
Очень просты эти понятия — честность, порядочность, доброта. Но далеко не проста и не пряма дорога к ним. Сереже Тимофееву, герою повести Л. Николаева, придется преодолеть немало ошибок, заблуждений, срывов, прежде чем честность, и порядочность, и доброта станут чертами его характера. В повести воссоздаются точная, увиденная глазами московского мальчишки атмосфера, быт послевоенной столицы.

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.