Евпатий - [2]
— Вы это прочли где-то или...
Илпатеев не ответил.
Беседа, честно говоря, действовала мне на нервы. Наверное, где-нибудь ещё по пути Илпатеев дал себе слово «оттерпеть» всё полагающееся автору, впервые решившему отдать свое «произведение» на чужой суд. Теперь вот он «терпел», слушал через слово, и единственное, что его всерьёз интересовало, был окончательный приговор.
— Все, кто писал о нём, вскоре после публикации расставались с жизнью, Петя! — сказал Илпатеев. — Оттуда у него сюда длинная рука. — И он засмеялся, негромко, слегка отклоняя голову назад.
Это его «Петя» заставило меня приглядеться к нему внимательней. Небольшой, светлоглазый, с некоторой неряшливостью одетый мужчина моих лет. Что ему нужно от меня? Утро горело синим пламенем, ещё чуть-чуть, и я начну злиться по-настоящему, я себя знал.
Илпатеев же стоял уже возле письменного стола и рассматривал портрет Саи-Бабы, на который я поглядываю иногда во время работы.
— Это кто ж такой? Боддисатва какой-нибудь?
Я ответил, что это индийский святой, но что к нашему делу это не относится.
— Так ты буддист, Петя? Или, может, даос? — Его тонкие, капризно изогнутые губы слегка усмехнулись. — «Совершенномудрый не оставляет следов...» Это?
— Ни то, ни другое, — сухо и почти уж грубо сказал я. — А вы... православный? — Я тоже не удержался от иронии.
Не замечая моего тона, он расстегнул пуговку на рубашке и выпростал наружу залоснившийся до багряной черноты деревянный, самодельный, по-видимому, крест. Мы одновременно поглядели на этот крест, а потом друг другу в глаза.
Потом он возвратил его на место, застегнул пуговку и повёл плечами. Где уж, мол, там православный! Так... Куда уж ему. И протянул ладонью вверх небольшую широконькую руку, которая едва заметно дрожала.
Я, тотчас сообразив, вложил в неё бирюзовую тетрадь.
— Мм-м... Прошу прощения... э... — сразу почувствовав себя виноватым, бормотал я.
— Николай! — подсказал Илпатеев. — Можно Коля.
С осторожностью он засунул тетрадь в пакет, с которого с охальным естеством гениальной женщины скалила зубы со щербиной Алла Пугачева. Всем видом он давал понять, что всё в порядке, что весьма благодарен за моё великодушное терпение и отнюдь не нарушит моей гигиенической установки сохранять дистанцию с самозваным автором и т.д. и т.п.
— Ну хорошо! — брякнул вдруг я помимо даже своей воли. — Чем я ещё могу вам... тебе помочь, Николай?
И именно потому, что фраза выражала искреннее участие, прозвучала она удивительно фальшиво.
Илпатеев протяжно, слишком громко как-то вздохнул и не тяжко, не с горя и не с облегчением, а как-то наивно вздохнул, не по правилам.
— Ты в самом деле не помнишь меня, Сапа? — И цвета зимнего неба его глазки всё с тем же простодушием посмотрели в мои.
— Нет! Не помню. — Я пожал плечами. Я действительно не помнил его. И тут от прихлынувшего внезапно раздражения я сделал вполне уже хамский жест — посмотрел на часы.
Илпатеев, не разжимая губ, улыбнулся и неожиданно заявил, что не стоит мне так беспокоиться, он уйдёт ровно через восемь минут.
— Через восемь?
С того дня, когда по блату мне удалось устроиться в конце концов в наше издательство, замаскированные авторские визиты сделались так или иначе неистребимым достоянием моего быта. На телефон я до сих пор стою в очереди, жены или литературного секретаря у меня нет, а завести большую и страшную собаку типа ньюфаундленда, какая была у меня в детстве, не позволяют лень и ограниченные финансовые возможности. Как-то увильнуть или хоть самортизировать вот такие нежданные визиты бывает порой просто не по силам.
— А курить можно у тебя? — видно, угадывая ход моих мыслей, продолжал улыбаться Илпатеев. — В график я уложусь, обещаю тебе.
Я не курю, но пепельница для гостей у меня имеется. В особенности для гостий, для поэтесс. Забывшись, они поэтически стряхивают пепел прямо на пол, который мне же потом и убирать.
Я взял с подоконника старую бронзовую пепельницу, кем-то и когда-то мне подаренную, и подал её Илпатееву.
— А я, Петя Сапега, тебя не забыл! — Он поставил пепельницу на острую коленку и белыми тонкими пальцами стал разминать дешёвую плоскую сигарету без фильтра.
— Ты в хоккей играл на фигурных коньках за ваш класс. А на общешкольном турнире я коня тебе зевнул на шестом ходе. Ты белыми играл.
Я развёл руками. Ну что ж. Бывает! Бывает, что и забываешь, бывает, и коня зеваешь.
Мне всё больше не терпелось дождаться его ухода.
— Ну ладно, Петя. — Он безжалостно раздавил довольно ещё длинный, со зловонием дымящий бычок. — Извини, в самом деле, за беспокойство. У-хо-жу! — Он хохотнул. Зубы у него были небольшие тоже, ровные и странно белые для почти сорокалетнего, в общем, человека. «Вставные, что ли?» — мелькнуло, помню, у меня.
В коридоре он прислонил пакет с рукописью к стене, обул свои рваненькие, зашнурованные через дырку кроссовки, а я галантно подал ему его куртку — добротную и довольно дорогую когда-то, но тоже весьма заношенную и не вполне чистую.
И вот случилось странное.
Он держался за дверную ручку, а я, помогая, отмыкал замок, как вдруг, вопреки логике встречи и совершенным сюрпризом для себя, я предложил Илпатееву оставить тетрадь. «А? Николай! — Я даже схватился за пакет. — Недельки на две. А потом зайдёте за ней прямо в издательство. По рукам? Согласны? А?» Я дважды повторил это дурацкое «а», так оно и было, честное слово.
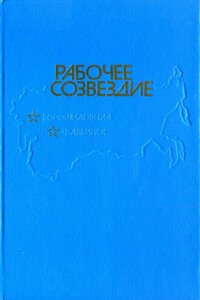
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
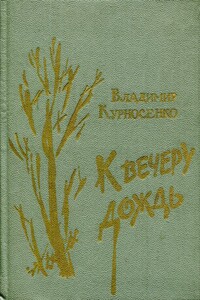
В книге, куда включены повесть «Сентябрь», ранее публиковавшаяся в журнале «Сибирские огни», и рассказы, автор ведет откровенный разговор о молодом современнике, об осмыслении им подлинных и мнимых ценностей, о долге человека перед обществом и совестью.

В книгу «Жена монаха» вошли повести и рассказы писателя, созданные в недавнее время. В повести «Свете тихий», «рисуя четыре судьбы, четыре характера, четыре опыта приобщения к вере, Курносенко смог рассказать о том, что такое глубинная Россия. С ее тоскливым прошлым, с ее "перестроечными " надеждами (и тогда же набирающим силу "новым " хамством), с ее туманным будущим. Никакой слащавости и наставительности нет и в помине. Растерянность, боль, надежда, дураковатый (но такой понятный) интеллигентско-неофитский энтузиазм, обездоленность деревенских старух, в воздухе развеянное безволие.

В книгу «Жена монаха» вошли повести и рассказы писателя, созданные в недавнее время. В повести «Свете тихий», «рисуя четыре судьбы, четыре характера, четыре опыта приобщения к вере, Курносенко смог рассказать о том, что такое глубинная Россия. С ее тоскливым прошлым, с ее "перестроечными " надеждами (и тогда же набирающим силу "новым " хамством), с ее туманным будущим. Никакой слащавости и наставительности нет и в помине. Растерянность, боль, надежда, дураковатый (но такой понятный) интеллигентско-неофитский энтузиазм, обездоленность деревенских старух, в воздухе развеянное безволие.

Владимир Курносенко - прежде челябинский, а ныне псковский житель. Его роман «Евпатий» номинирован на премию «Русский Букер» (1997), а повесть «Прекрасны лица спящих» вошла в шорт-лист премии имени Ивана Петровича Белкина (2004). «Сперва как врач-хирург, затем - как литератор, он понял очень простую, но многим и многим людям недоступную истину: прежде чем сделать операцию больному, надо самому почувствовать боль человеческую. А задача врача и вместе с нимлитератора - помочь убавить боль и уменьшить страдания человека» (Виктор Астафьев)
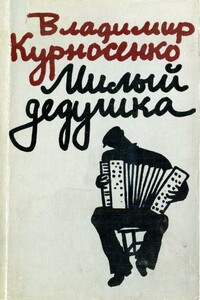
Молодой писатель из Челябинска в доверительной лирической форме стремится утвердить высокую моральную ответственность каждого человека не только за свою судьбу, но и за судьбы других людей.

В 1-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли её первые произведения — повесть «Облик дня», отразившая беспросветное существование трудящихся в буржуазной Польше и высокое мужество, проявляемое рабочими в борьбе против эксплуатации, и роман «Родина», рассказывающий историю жизни батрака Кржисяка, жизни, в которой всё подавлено борьбой с голодом и холодом, бесправным трудом на помещика.Содержание:Е. Усиевич. Ванда Василевская. (Критико-биографический очерк).Облик дня. (Повесть).Родина. (Роман).

В 7 том вошли два романа: «Неоконченный портрет» — о жизни и деятельности тридцать второго президента США Франклина Д. Рузвельта и «Нюрнбергские призраки», рассказывающий о главарях фашистской Германии, пытающихся сохранить остатки партийного аппарата нацистов в первые месяцы капитуляции…

«Тысячи лет знаменитейшие, малоизвестные и совсем безымянные философы самых разных направлений и школ ломают свои мудрые головы над вечно влекущим вопросом: что есть на земле человек?Одни, добросовестно принимая это двуногое существо за вершину творения, обнаруживают в нем светочь разума, сосуд благородства, средоточие как мелких, будничных, повседневных, так и высших, возвышенных добродетелей, каких не встречается и не может встретиться в обездушенном, бездуховном царстве природы, и с таким утверждением можно было бы согласиться, если бы не оставалось несколько непонятным, из каких мутных источников проистекают бесчеловечные пытки, костры инквизиции, избиения невинных младенцев, истребления целых народов, городов и цивилизаций, ныне погребенных под зыбучими песками безводных пустынь или под запорошенными пеплом обломками собственных башен и стен…».

В чём причины нелюбви к Россиии западноевропейского этносообщества, включающего его продукты в Северной Америке, Австралии и пр? Причём неприятие это отнюдь не началось с СССР – но имеет тысячелетние корни. И дело конечно не в одном, обычном для любого этноса, национализме – к народам, например, Финляндии, Венгрии или прибалтийских государств отношение куда как более терпимое. Может быть дело в несносном (для иных) менталитете российских ( в основе русских) – но, допустим, индусы не столь категоричны.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.