Это не трубка - [9]
В Декалькомании (1966) занимающий две трети картины красный занавес с широкими складками скрывает от взгляда пейзаж с небом, морем и песком. Возле занавеса, как всегда, повернувшись к зрителю спиной, человек в котелке смотрит в сторону открытого моря.
Тут обнаруживается, что в занавесе есть разрез, чьи очертания в точности повторяют контуры человека: как если бы (вопреки иному цвету, плотности, объемности его фигуры) он был всего лишь вырезанным ножницами куском занавеса. В широком разрезе виден пляж. Что это может значить? Что отделившийся от занавеса человек теперь позволяет нам увидеть то, в созерцание чего он был погружен еще тогда, когда пребывал в складках этого занавеса? Или что художник прикрепил к занавесу этот ранее скрытый от зрителя силуэтом человека фрагмент неба, воды и песка, сместив его на несколько сантиметров, так что теперь, благодаря любезности художника, мы также можем увидеть то, в созерцание чего погружен загораживающий нам вид персонаж? Или же следует предположить, что в тот момент, когда человек остановился, чтобы полюбоваться видом, этот находившийся прямо перед ним фрагмент пейзажа отскочил в сторону, скрылся от его взгляда и теперь персонаж видит перед собой лишь отбрасываемую им же тень, черную массу собственного тела? Декалькомания, переводная картинка? Несомненно. Но с чего и на что она переведена? Откуда куда? Плотный черный силуэт человека кажется перевернутым справа налево, с занавеса на пейзаж, который он теперь загораживает: оставленная им в занавесе дыра говорит о его былом там присутствии. Но пейзаж, вырезанный по силуэту человека, так же был перенесен, но слева направо: странным образом оставшийся на плече этого пейзажа-человека край занавеса, соответствующий краю занавеса, скрытому черным силуэтом, так же заявляет о том, откуда происходят, откуда были вырезаны это небо и эта вода. Перемещение и замена подобных элементов, но вовсе не воспроизведение по сходству.
Благодаря Декалькомании можно уловить, в чем преимущество подобия перед сходством: сходство делает возможным узнавание чего-то, несомненно являющегося зримым; подобие позволяет увидеть незримое, скрытое за привычными очертаниями, узнаваемыми предметами. («Тело = занавес», говорит репрезентация по сходству; «находящееся справа находится слева, находящееся слева находится справа; скрытое там видимо здесь; вырезанное является выпуклым; приклеенное - простирается вдали», говорят подобия в Декалькомании.) Сходство предполагает единственную, всегда одну и ту же констатацию (assertion): вот это, вот то и то, что еще вон там, - это такая-то вещь. Подобие умножает всевозможные утверждения (affirmations), они словно исполняют вместе некий танец, опираются и валятся друг на друга.
Изгнанное из пространства картины, исключенное из отношений между вещами, которые отсылают их друг к другу, сходство исчезает. Но, возможно, лишь для того, чтобы господствовать в ином пространстве, где оно будет освобождено от бесконечной игры подобия. Но разве не сходство - та суверенность, что заставляет вещи появляться? Разве сходство, вовсе не являющееся неотъемлемой принадлежностью вещей, не принадлежит исключительно мысли? «Только мысли, - говорит Магритт, - присуще сходство. Она наделяется сходством с тем, что видит, слышит или знает, она становится тем, что дарит ей мир». Мысль ищет сходства, но без подобия, становясь сама теми вещами, подобность которых исключает сходство. И живопись, без сомнения, находится здесь, в этой точке вертикального деления, по одну сторону которой остается мысль, существующая в модусе сходства, а по другую - вещи, связанные отношением подобия2.
Вернемся к рисунку трубки, который так похож на трубку; к написанному тексту, который в точности похож на рисунок написанного текста. И действительно, противопоставленные или же просто помещенные рядом, элементы аннулируют казавшееся присущим им внутреннее сходство, и постепенно намечается открытая цепочка подобий. Открытая не для «реальной» трубки, отсутствующей во всех рисунках и словах, но для остальных подобных элементов (в том числе и для всех «реальных» трубок - глиняных, пенковых, деревянных и т. д.), которые, однажды включенные в эту цепочку, обретают место и функцию симулякра. И то, что мог бы сказать каждый из элементов фразы «это не трубка», только кажется отрицанием (ибо речь идет о том, что вместе со сходством отвергается и констатация существования реальности), но по сути своей является утвердительным высказыванием: утверждением симулякра, утверждением элемента ряда подобия.
Установим серию этих утверждений, отвергающих констатацию сходства и выраженных в предложении: это не трубка. Для этого достаточно лишь поставить вопрос: кто говорит в этом высказывании? Или, скорее, поочередно дать слово каждому из элементов, представленных Магриттом; ибо по сути каждый из них может сказать о себе или о соседствующем с ним элементе: это не трубка.
Сначала сама трубка: «То, что вы здесь видите, эти образующие меня или образуемые мною линии, - вовсе не трубка, как вы, несомненно, полагаете; но рисунок, находящийся в отношении вертикального подобия с той, другой трубкой, не знаю, реальной или нет, настоящей или нет, - вы видите ее прямо над этой картиной, где пребываю я, простое и одинокое подобие». На что трубка сверху отвечает (все в том же высказывании): «То, что парит перед вашим взглядом, вне пространства и без всякой опоры, этот туман, не покоящийся ни на холсте, ни на странице, - ну как он может реально быть трубкой? Не обманывайтесь, я -всего лишь нечто подобное трубке, но не похожее на нее, облакообразное подобие, которое, ни к чему не отсылая, пересекает и заставляет сообщаться между собою тексты вроде того, который вы можете прочесть, и рисунки вроде того, что находится здесь внизу». Но высказывание, таким образом проговоренное дважды и уже двумя различными голосами, в свою очередь само берет слово, чтобы сказать: «Эти составляющие меня буквы, от которых вы, приступая к чтению, ожидаете, что они назовут трубку, как эти буквы осмелятся сказать, что они и есть трубка, они, столь далекие от того, что называют? Это лишь похожий на самого себя графизм, и он вряд ли сможет сойти за то, что он говорит». Более того: эти голоса объединяются по двое, чтобы сказать «это не трубка» о третьем элементе. Объединенные заключающей их рамой картины, текст и трубка снизу вступают в сговор: власть означивания, которой наделены слова, власть иллюстрирования, которой обладает рисунок, разоблачают трубку сверху, отказывают этому видению без ориентиров в праве именоваться трубкой, поскольку его ни к чему не привязанное существование делает его немым и незримым. Объединенные взаимным подобием, две трубки оспаривают право называться трубкой у подписи, составленной из знаков, лишенных сходства с тем, что они обозначают. Объединенные тем, что оба они - пришельцы извне, один --как дискурс, способный нести правду, другая - как некое явление вещи в себе, текст и трубка сверху объединяют усилия, чтобы констатировать, что трубка на картине - это не трубка. Возможно также предположить, что, помимо этих трех элементов, в этом высказывании звучит еще некий голос, голос без места, (возможно, голос доски или картины); и теперь речь идет и о трубке на картине, и о трубке, парящей вверху: «ничто из этого не есть трубка; но текст, симулирующий текст; рисунок трубки, симулирующий рисунок трубки; трубка (нарисованная так, как если бы это не был рисунок), являющаяся симулякром трубки (нарисованной наподобие трубки, которая сама не есть рисунок). Семь дискурсов в одном-единственном высказывании. Но их понадобилось бы не меньше, чтобы взять крепость, в которой подобие томится узником констатации сходства.
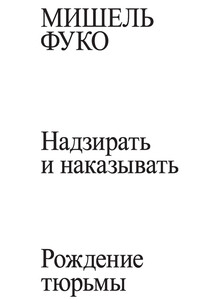
Более 250 лет назад на Гревской площади в Париже был четвертован Робер-Франсуа Дамьен, покушавшийся на жизнь короля Людовика XV. С описания его чудовищной казни начинается «Надзирать и наказывать» – одна из самых революционных книг по современной теории общества. Кровавый спектакль казни позволяет Фуко продемонстрировать различия между индивидуальным насилием и насилием государства и показать, как с течением времени главным объектом государственного контроля становится не тело, а душа преступника. Эволюция способов надзора и наказания постепенно превращает грубое государственное насилие в сложнейший механизм тотальной биовласти, окутывающий современного человека в его повседневной жизни и формирующий общество тотального контроля.

Об автореФранцузский философ Мишель Фуко (1926–1984) и через 10 лет после смерти остается одним из наиболее читаемых, изучаемых и обсуждаемых на Западе. Став в 70-е годы одной из наиболее влиятельных фигур в среде французских интеллектуалов и идейным вдохновителем целого поколения философов и исследователей в самых различных областях, Фуко и сегодня является тем, кто «учит мыслить».Чем обусловлено это исключительное положение Фуко и особый интерес к нему? Прежде всего самим способом своего философствования: принципиально недогматическим, никогда не дающим ответов, часто – провоцирующим, всегда так заостряющий или переформулирующий проблему, что открывается возможность нового взгляда на нее, нового поворота мысли.
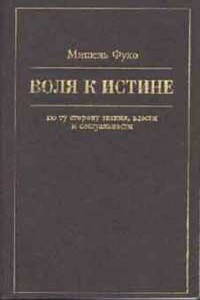
Сборник работ выдающегося современного французского философа Мишеля Фуко (1926 — 1984), одного из наиболее ярких, оригинальных и влиятельных мыслителей послевоенной Европы, творчество которого во многом определяло интеллектуальную атмосферу последних десятилетий.В сборник вошел первый том и Введение ко второму тому незавершенной многотомной Истории сексуальности, а также другие программные работы Фуко разных лет, начиная со вступительной речи в Коллеж де Франс и кончая беседой, состоявшейся за несколько месяцев до смерти философа.

Приняв за исходную точку анализа платоновский диалог «Алкивиад» (Алкивиад I) Мишель Фуко в публикуемом курсе лекций рассматривает античную «культуру себя» I—11 вв. н. как философскую аскезу, или ансамбль практик, сложившихся пол знаком древнего императива «заботы о себе». Дальний прицел такой установки полная «генеалогия» новоевропейского субъекта, восстановленная в рамках заявленной Фуко «критической онтологии нас самих». Речь идет об истории субъекта, который в гораздо большей степени учреждает сам себя, прибегая к соответствующим техникам себя, санкционированным той или иной культурой, чем учреждается техниками господина (Власть) или дискурсивными техниками (Знание), в связи с чем вопрос нашего нынешнего положения — это не проблема освобождения, но практика свободы..
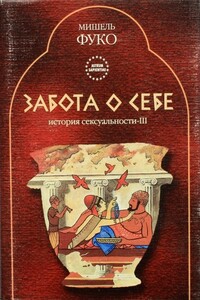
"История сексуальности" Мишеля Фуко (1926—1984), крупнейшего французского философа, культуролога и историка науки, — цикл исследований, посвященных генеалогии этики и анализу различного рода "техник себя" в древности, в Средние века и в Новое время, а также вопросу об основах христианской точки зраения на проблемы личности, пола и сексуальности. В "Заботе о себе" (1984) — третьем томе цикла — автор описывает эволюцию сексуальной морали и модификации разнообразных практик, с помощью которых инцивидуум конституирует себя как такового (медицинские режимы, супружеские узы, гетеро- и гомосексуальные отношения и т.д.), рассматривая сочинения греческих и римских авторов (философов, риторов, медиков, литераторов, снотолкователей и проч.) первых веков нашей эры, в т.
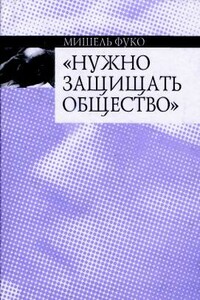
Книга — публикация лекций Мишеля Фуко — знакомит читателя с интересными размышлениями ученого о природе власти в обществе. Фуко рассматривает соотношение власти и войны, анализируя формирование в Англии и Франции XVII–XVIII вв. особого типа историко-политического дискурса, согласно которому рождению государства предшествует реальная (а не идеальная, как у Гоббса) война. Автор резко противопоставляет историко-политический и философско-юридический дискурсы. Уже в аннотируемой книге он выражает сомнение в том, что характерное для войны бинарное отношение может служить матрицей власти, так как власть имеет многообразный характер, пронизывая вес отношения в обществе.http://fb2.traumlibrary.net.

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.

Культура русского зарубежья начала XX века – особый феномен, порожденный исключительными историческими обстоятельствами и до сих пор недостаточно изученный. В частности, одна из частей его наследия – киномысль эмиграции – плохо знакома современному читателю из-за труднодоступности многих эмигрантских периодических изданий 1920-х годов. Сборник, составленный известным историком кино Рашитом Янгировым, призван заполнить лакуну и ввести это культурное явление в контекст актуальной гуманитарной науки. В книгу вошли публикации русских кинокритиков, писателей, актеров, философов, музы кантов и художников 1918-1930 годов с размышлениями о специфике киноискусства, его социальной роли и перспективах, о мировом, советском и эмигрантском кино.
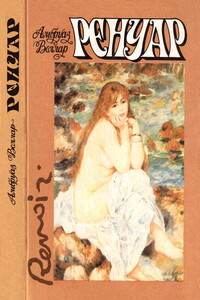
Книга рассказывает о знаменитом французском художнике-импрессионисте Огюсте Ренуаре (1841–1919). Она написана современником живописца, близко знавшим его в течение двух десятилетий. Торговец картинами, коллекционер, тонкий ценитель искусства, Амбруаз Воллар (1865–1939) в своих мемуарах о Ренуаре использовал форму записи непосредственных впечатлений от встреч и разговоров с ним. Перед читателем предстает живой образ художника, с его взглядами на искусство, литературу, политику, поражающими своей глубиной, остроумием, а подчас и парадоксальностью. Книга богато иллюстрирована. Рассчитана на широкий круг читателей.
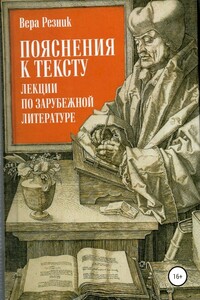
Эта книга воспроизводит курс лекций по истории зарубежной литературы, читавшийся автором на факультете «Истории мировой культуры» в Университете культуры и искусства. В нем автор старается в доступной, но без каких бы то ни было упрощений форме изложить разнообразному кругу учащихся сложные проблемы той культуры, которая по праву именуется элитарной. Приложение содержит лекцию о творчестве Стендаля и статьи, посвященные крупнейшим явлениям испаноязычной культуры. Книга адресована студентам высшей школы и широкому кругу читателей.

Наум Вайман – известный журналист, переводчик, писатель и поэт, автор многотомной эпопеи «Ханаанские хроники», а также исследователь творчества О. Мандельштама, автор нашумевшей книги о поэте «Шатры страха», смелых и оригинальных исследований его творчества, таких как «Черное солнце Мандельштама» и «Любовной лирики я никогда не знал». В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов. Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами.
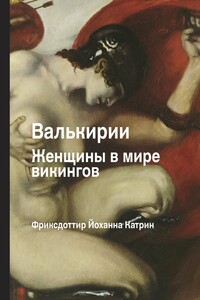
Валькирии… Загадочные существа скандинавской культуры. Мифы викингов о них пытаются возвысить трагедию войны – сделать боль и страдание героическими подвигами. Переплетение реалий земного и загробного мира, древние легенды, сила духа прекрасных воительниц и их личные истории не одно столетие заставляют ученых задуматься о том, кто же такие валькирии и существовали они на самом деле? Опираясь на новейшие исторические, археологические свидетельства и древние захватывающие тексты, автор пытается примирить легенды о чудовищных матерях и ужасающих девах-воительницах с повседневной жизнью этих женщин, показывая их в детские, юные, зрелые годы и на пороге смерти. Джоанна Катрин Фридриксдоттир училась в университетах Рейкьявика и Брайтона, прежде чем получить докторскую степень по средневековой литературе в Оксфордском университете в 2010 году.