Это не трубка - [8]
Не стоит обманываться: в пространстве, где каждый элемент представляется послушным лишь принципу пластической репрезентации и сходства, лингвистические знаки, некогда изгнанные и бродившие где-то поодаль от изображения, казалось бы, навсегда отброшенные произволом названия, исподволь приблизились; в надежность изображения, его скрупулезную похожесть они внесли некий беспорядок - точнее, порядок, свойственный только им. Они обратили в бегство объект, внезапно оказавшийся лишенной объема тонкой пленкой.
*LA, LE - во французском языке - определенный артикль. (Прим. пер.)
Клее, для того чтобы расположить там свои пластические знаки, соткал новое пространство. Магритт сохраняет господство старого пространства репрезентации, но лишь по видимости, ибо теперь это только гладкий камень, несущий слова и фигуры: под ним ничего нет. Это могильная плита: насечки, обрисовывающие фигуры и намечающие буквы, сообщаются между собою только через пустоту, через это не-место, скрывающееся под прочностью мрамора. Но случается, что это отсутствие выходит на поверхность и проступает в самой картине: когда Магритт дает версию Мадам Рекамъе или Балкона, он заменяет персонажей традиционной живописи гробами: пространство, состоящее из объема живых тел, развевания складок платья, направлений взглядов и всех этих готовых заговорить лиц, обретает развязку в пустоте, незримо пребывающей между вощеными дубовыми досками: «не-место» являет себя «собственной персоной», занимая то место, где некогда присутствовали персонажи и где уже никого нет.
И когда слово обретает прочность предмета, мне вспоминается этот кусок паркета, на котором белой краской написано слово «сирена» с гигантским поднятым пальцем, вертикально протыкающим пол на месте «i» и тянущимся к бубенцу, заменяющему точку над этим «i»; слово и предмет не пытаются составить одну фигуру; наоборот, они располагаются в противоположных направлениях; и пересекающий надпись указательный палец поднимается над ней, копируя и одновременно закрывая «i»; указательный палец, изображающий означающую функцию слова и образующий как бы одну из тех башен, на которых помещают сирены, нацелен лишь на допотопный бубенец.
V. СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ УТВЕРЖДЕНИЯ
Итак, старинное тождество между сходством и утверждением. Кандинский устраняет его одним полновластным жестом, избавляя живопись от того и другого. Магритт же действует через разъединение: разорвать между ними связь, установить их неравенство, заставить каждое из них вести свою собственную игру, поддержать то, что проявляет природу живописи, в ущерб тому, что ближе к дискурсу; следовать, насколько возможно, бесконечной чередой сходства, но избавить его от любого утверждения, стремящегося сказать, на что именно оно походит. Живопись «Того же самого», освобожденного от «такового». Здесь мы предельно далеки от обманки. Обманка стремится протащить всю тяжесть утверждения через уловку сходства, убеждающую нас: «То, что вы здесь видите, - это не набор линий и красок на поверхности стены; это глубина, небо, облака, откинувшие полог потолка над вами, это настоящая колонна, которую вы можете обойти, лестница, продолжающая ступени, по которым вы уже поднимаетесь (и вот вы уже невольно заносите ногу, чтобы ступить на нее), каменная балюстрада, над которой наклоняются, чтобы рассмотреть вас, внимательные лица придворных дам и кавалеров, одетых в ту же, что и вы, одежду, украшенную такими же лентами, они улыбаются вашему изумлению и вашим улыбкам, посылают вам поклоны, кажущиеся вам загадочными лишь потому, что они уже отвечают на те поклоны, которые вы еще только собираетесь послать им».
Мне кажется, что Магритт отделил сходство от подобия и заставил играть последнее против первого. У сходства есть «хозяин»: первоначальный элемент, по отношению к которому выстраиваются порядок и иерархия тех все более и более отдаленных копий, которые можно с него снять. Сходство предполагает некоторую изначальную референцию, предписывающую и классифицирующую. Подобие разворачивается сериями, не имеющими ни начала ни конца, эти серии можно пробегать в том или ином направлении, они не подвластны никакой иерархии, но распространяются через последовательность небольших различий. Сходство подчинено репрезентации; подобие служит пронизывающему его повторению. Сходство задается моделью, проводником которой оно должно быть и которую оно должно сделать узнаваемой; подобие пускает в оборот симулякр как неопределимую и обратимую связь от подобного к подобному.
Возьмем, к примеру, Представление (1962): точное изображение воздушного шара, частично видимого с обнесенной низкой стеной террасы; но слева над этой стеной возвышается балюстрада, и за ее выступом мы замечаем совершенно тот же вид, но уменьшенный приблизительно вдвое. Следует ли предположить уходящую влево серию других «представлений, столь же похожих одно на другое и постепенно уменьшающихся? Возможно. Но это необязательно. Достаточно того, чтобы на одной картине присутствовали два образа, побочно связанные отношением подобия, чтобы внешняя референция к модели через сходство была поколеблена, стала сомнительной, повисла в воздухе. Что «представляет» что? Если точность изображения функционировала как указание на модель, на полновластного, единого и внеположного «хозяина», серия подобий (и достаточно двух, чтобы уже существовала серия) упраздняет эту монархию, одновременно идеальную и реальную. Симулякр отныне скользит по поверхности, и направление его движения всегда обратимо.
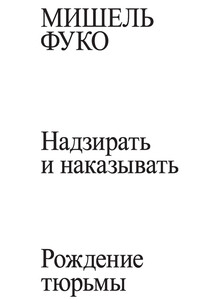
Более 250 лет назад на Гревской площади в Париже был четвертован Робер-Франсуа Дамьен, покушавшийся на жизнь короля Людовика XV. С описания его чудовищной казни начинается «Надзирать и наказывать» – одна из самых революционных книг по современной теории общества. Кровавый спектакль казни позволяет Фуко продемонстрировать различия между индивидуальным насилием и насилием государства и показать, как с течением времени главным объектом государственного контроля становится не тело, а душа преступника. Эволюция способов надзора и наказания постепенно превращает грубое государственное насилие в сложнейший механизм тотальной биовласти, окутывающий современного человека в его повседневной жизни и формирующий общество тотального контроля.

Об автореФранцузский философ Мишель Фуко (1926–1984) и через 10 лет после смерти остается одним из наиболее читаемых, изучаемых и обсуждаемых на Западе. Став в 70-е годы одной из наиболее влиятельных фигур в среде французских интеллектуалов и идейным вдохновителем целого поколения философов и исследователей в самых различных областях, Фуко и сегодня является тем, кто «учит мыслить».Чем обусловлено это исключительное положение Фуко и особый интерес к нему? Прежде всего самим способом своего философствования: принципиально недогматическим, никогда не дающим ответов, часто – провоцирующим, всегда так заостряющий или переформулирующий проблему, что открывается возможность нового взгляда на нее, нового поворота мысли.

Приняв за исходную точку анализа платоновский диалог «Алкивиад» (Алкивиад I) Мишель Фуко в публикуемом курсе лекций рассматривает античную «культуру себя» I—11 вв. н. как философскую аскезу, или ансамбль практик, сложившихся пол знаком древнего императива «заботы о себе». Дальний прицел такой установки полная «генеалогия» новоевропейского субъекта, восстановленная в рамках заявленной Фуко «критической онтологии нас самих». Речь идет об истории субъекта, который в гораздо большей степени учреждает сам себя, прибегая к соответствующим техникам себя, санкционированным той или иной культурой, чем учреждается техниками господина (Власть) или дискурсивными техниками (Знание), в связи с чем вопрос нашего нынешнего положения — это не проблема освобождения, но практика свободы..
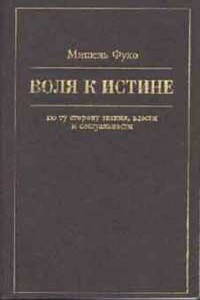
Сборник работ выдающегося современного французского философа Мишеля Фуко (1926 — 1984), одного из наиболее ярких, оригинальных и влиятельных мыслителей послевоенной Европы, творчество которого во многом определяло интеллектуальную атмосферу последних десятилетий.В сборник вошел первый том и Введение ко второму тому незавершенной многотомной Истории сексуальности, а также другие программные работы Фуко разных лет, начиная со вступительной речи в Коллеж де Франс и кончая беседой, состоявшейся за несколько месяцев до смерти философа.
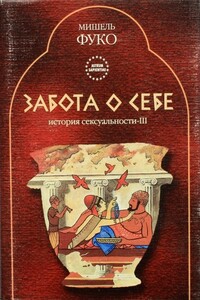
"История сексуальности" Мишеля Фуко (1926—1984), крупнейшего французского философа, культуролога и историка науки, — цикл исследований, посвященных генеалогии этики и анализу различного рода "техник себя" в древности, в Средние века и в Новое время, а также вопросу об основах христианской точки зраения на проблемы личности, пола и сексуальности. В "Заботе о себе" (1984) — третьем томе цикла — автор описывает эволюцию сексуальной морали и модификации разнообразных практик, с помощью которых инцивидуум конституирует себя как такового (медицинские режимы, супружеские узы, гетеро- и гомосексуальные отношения и т.д.), рассматривая сочинения греческих и римских авторов (философов, риторов, медиков, литераторов, снотолкователей и проч.) первых веков нашей эры, в т.
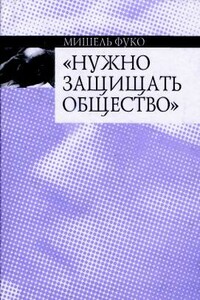
Книга — публикация лекций Мишеля Фуко — знакомит читателя с интересными размышлениями ученого о природе власти в обществе. Фуко рассматривает соотношение власти и войны, анализируя формирование в Англии и Франции XVII–XVIII вв. особого типа историко-политического дискурса, согласно которому рождению государства предшествует реальная (а не идеальная, как у Гоббса) война. Автор резко противопоставляет историко-политический и философско-юридический дискурсы. Уже в аннотируемой книге он выражает сомнение в том, что характерное для войны бинарное отношение может служить матрицей власти, так как власть имеет многообразный характер, пронизывая вес отношения в обществе.http://fb2.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
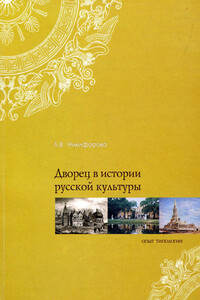
Дворец рассматривается как топос культурного пространства, место локализации политической власти и в этом качестве – как художественная репрезентация сущности политического в культуре. Предложена историческая типология дворцов, в основу которой положен тип легитимации власти, составляющий область непосредственного смыслового контекста художественных форм. Это первый опыт исследования феномена дворца в его историко-культурной целостности. Книга адресована в первую очередь специалистам – культурологам, искусствоведам, историкам архитектуры, студентам художественных вузов, музейным работникам, поскольку предполагает, что читатель знаком с проблемой исторической типологии культуры, с основными этапами истории архитектуры, основными стилистическими характеристиками памятников, с формами научной рефлексии по их поводу.

Есть события, явления и люди, которые всегда и у всех вызывают жгучий интерес. Таковы герои этой книги. Ибо трудно найти человека, никогда не слыхавшего о предсказаниях Нострадамуса или о легендарном родоначальнике всех вампиров Дракуле, или о том, что Шекспир не сам писал свои произведения. И это далеко не все загадки эпохи Возрождения. Ведь именно в этот период творил непостижимый Леонардо; на это же время припадает необъяснимое на первый взгляд падение могущественных империй ацтеков и инков под натиском горстки авантюристов.

Издание представляет собой сборник научных трудов коллектива авторов. В него включены статьи по теории и методологии изучения культурогенеза и культурного наследия, по исторической феноменологии культурного наследия. Сборник адресован культурологам, философам, историкам, искусствоведам и всем, кто интересуется проблемами изучения культуры.Издание подготовлено на кафедре теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и подводит итоги работы теоретического семинара аспирантов кафедры за 2008 – 2009 годы.Посвящается 80-летнему юбилею академика РАЕН доктора исторических наук Вадима Михайловича Массона.

Книга состоит из очерков, посвященных различным сторонам духовной жизни Руси XIV‑XVI вв. На основе уникальных источников делается попытка раскрыть внутренний мир человека тех далеких времен, показать развитие представлений о справедливости, об идеальном государстве, о месте человеческой личности в мире. А. И. Клибанов — известнейший специалист по истории русской общественной мысли. Данной книге суждено было стать последней работой ученого.Предназначается для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся прошлым России и ее культурой.

Автор, на основании исторических источников, рассказывает о возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, символике жеста, оформлении бальных залов. По-своему уникальна опубликованная в книге хрестоматия. Читателю впервые предоставляется возможность вместе с героями Пушкина, Данилевского, Загоскина, Лермонтова, Ростопчиной, Баратынского, Бунина, Куприна, Гоголя и др. побывать на балах XVIII–XX столетий.Это исследование во многом носит и прикладной характер. Впервые опубликованные фигуры котильона позволяют воспроизвести этот танец на современных балах.