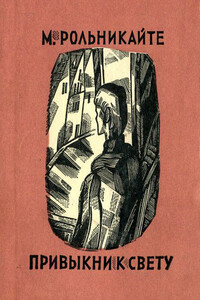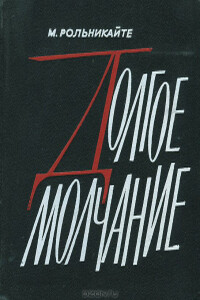вносить в рукопись недостающую идейность. Над вычеркнутыми мною словами о том, что "Юденрат" ("Еврейский совет") был создан из почтенных жителей города, он вписал, что "Юденрат" был создан "из еврейской городской знати, ее представителям гитлеровцы доверяют. Никто этот совет не выбирал, ненастоящий он. Только называется "советом". Я пыталась объяснить, что не гитлеровцы его создали, а сами, именно вильнюсцы выдвинули из своей cреды самых почтенных людей. Перечислила, кто именно входит в совет. Но Пагирис был непреклонен. Тогда я предложила вообще не давать перевода, оставить немецкое название, на что услышала, что иностранные слова публиковать без точного перевода нельзя. И явно давая понять, что оспаривать это бессмысленно, Пагирис перевернул страницу. Мелкую, чисто стилистическую правку я принимала с благодарностью. И против не очень существенных замечаний не возражала. В какое-то мгновенье мне даже показалось, что он становится не таким неприступно официальным. Но, увы, только показалось. Но когда я его спросила, почему он вычеркнул запись одного из осенних дней 1941-го года: "Скорей бы пришла зима. Взрослые говорят, что тогда Гитлеру будет конец Наполеона", он отрезал, что гитлеровская армия была разгромлена благодаря героизму советских воинов, а не морозам. А тем, что я вычеркнула свои рассуждения о Генсасе, наоборот, был очень недоволен. — Буржуазных националистов надо разоблачать и осуждать, а не делать вид, что среди ваших соплеменников их не было. Я принялась объяснять, что не делаю вида, будто их не было. Показала страницу, где, записав о создании геттовской полиции, шефом которой стал Генсас, указываю, что он был офицером сметоновской>*армии и работал в Каунасской тюрьме. (*А.Сметона — до 1940-го года — президент Литвы.). И все его деяния описала подробно и объективно. Читатель сам составит о нем свое мнение. Когда я училась в Литературном институте, нам на каждом семинаре твердили, что читателю или зрителю именно не надо разъяснять происходящее, а предоставить ему возможность самому делать выводы. Не знаю, помогла ли ссылка на Литературный институт, или телефонный звонок. С первых слов поняв, что разговор сугубо личный, я вышла из комнаты. Когда он меня позвал, то был явно доволен моей догадливостью, и к вычеркнутым страницам о Генсасе не вернулся. Все равно Пагирис был непреклонен. Раньше он, видно, не заметил, что я, вычеркнув, как того желал рецензент, фамилию Глазмана из текста, вставила его в сноску, где перечислила незнакомых мне тогда других членов партизанской организации. Теперь он это увидел и хмуро заявил, что не советует мне прибегать к таким маневрам. И не просто перечеркнул, а густо замазал фамилию Глазмана. Словно похоронил ее под чернилами. Так же хмуро спросил, откуда мне известно, что присланный вместо Мурера Бруно Китель был артистом кино. (В рецензии этого вопроса не было, тут уж Пагирис проявил собственную бдительность). Ничем, кроме того, что "все так говорили", я подтвердить этого не могла, поэтому утверждение о том, что Китель был артистом, он все-таки вычеркнул.>*(*В вышедшем несколько лет спустя документальном сборнике "Массовые убийства в Литве" прежняя профессия Кителя указана.) Что Йонайтис не символическая фигура поверил. А что в маленьких городках вокруг Вильнюса в 1942-43 г. г еще были гетто и что в торфянике в Кене людей сожгли живьем, я вызвалась, если надо, добыть доказательства, съездив туда. И он согласился временно это оставить. Но когда мы дошли до описания одной июльской ночи 1943-го года, и я увиделачтоон вычеркнул, от изумления только и смогла вымолвить: — Почему?! Пагирис не ответил. Видно, не счел нужным. А я вернулась в ту ночь… …Гестапо, узнав, что в гетто существует объединенная партизанская организация, предъявило ультиматум: если завтра до девяти утра не будет выдан ее руководитель И.Витенберг, в десять начнется тотальная ликвидация гетто. Всю ночь Генсас со своими полицейскими охотились за Витенбергом. В конце концов, его обнаружили и увели, но партизаны своего командира отбили. Однако под утро Витенберг сам решил сдаться: он не хотел быть причиной гибели еще остававшихся в гетто двадцати тысяч человек. Узнав об этом, я написала: "Не знаю, сколько сама буду жить, но за это я должна быть благодарна Витенбергу. Сегодня он меня спас. Не только меня — маму, Миру, детей, тысячи матерей и детей…" Именно эти мои слова Пагирис вычеркнул. Я повторила свой вопрос: — Почему нельзя писать об этом? Он равнодушно объяснил, что тогда мне, пятнадцатилетней девочке, такой поступок мог показаться исключительным. Но теперь, когда мы знаем о подвиге Александра Матросова, Марите Мельникайте, Николая Гастелло, Зои Космодемьянской и многих других, это уже не звучит как из ряда вон выходящее событие, и пафос тут неуместен. Я принялась его убеждать, что это не пафос, что не только тогда, но и теперь я считаю, что Витенберг спас меня, и не только меня одну. А оттого, что во время войны подвигов было много, каждый отдельный не перестает быть героическим. Он нахмурился. — Если бы так считали, ему бы тоже присвоили звание Героя Советского Союза. После такого аргумента еще что-нибудь объяснять было бесполезно. Оставалось утешать себя, что и без моей благодарности видно, что в тот раз Витенберг оказался нашим спасителем. Следующие поправки оказались менее существенными. С одними я соглашалась, против других возражала, и он, хоть нехотя, свои поправки смягчал. Видно, самому надоело спорить. А мне исчирканная рукопись стала казаться другой, как бы не совсем своей. Но на этом так называемая доработка рукописи не кончилась. Вскоре меня вызвала Шамарина. Оказывается, она проверила редакторскую правку и обнаружила несколько неучтенных замечаний рецензента. Она пожелала, чтобы о шофере, захотевшем извлечь двойную выгоду за то, что берется увезти обреченных в маленькие местечки, был приведен конкретный факт. А я этого сделать не могла. Я описала только общеизвестное. Вот как это было… …В первые месяцы в гетто, когда Мурер проводил одну акцию за другой, и уже были расстреляны более тридцати тысяч человек, кто-то пустил слух, что в ближайших местечках намного спокойней. И некоторые наиболее энергичные люди, продав последнее, что было взято с собою в гетто, объединившись, нанимали грузовик, который должен был тайком увезти их туда. Но в большинстве случаев шофер, потребовав плату вперед, вывозил своих нанимателей только за город и там передавал немцам, получив и от них вознаграждение. Узнали мы об этом от двух мужчин, которым удалось в темноте убежать. Но ни фамилий обманутых, ни тем более шоферов я не знала. И Шамарина настояла, чтобы все вычеркнуть. Единственное, на что она после долгих уговоров согласилась, это, чтобы я вписала: "Но пока еще очень немногие достигли цели: задерживают по дороге". Другую запись она вычеркнула сама. …В нашей комнате ютилось пять семей. Угол занимали две сестры. Родителей забрали, они остались одни. Рыжеволосой Ривке было семнадцать лет, а запуганной тихоне Двейреле — десять. Однажды, открыв дверь в уборную — крючок изнутри не был закинут — я изумилась: они там едят! У Ривки в руках большущий, в полбуханки, кусок хлеба, и она отламывает и дает Двейреле. Та испугалась, но Ривка ее успокоила: — Ешь! А ты, — она сердито глянула на меня, — держи язык за зубами. Я кивнула и быстро закрыла дверь. Вечером Двейреле мне шепнула, что Ривка ждет меня во дворе. Было очень темно, и от этого, когда Ривка заговорила, ее голос казался еще более строгим. — На чердаке сушится белье. Сходи и принеси оттуда простыню. Выменяю ее на хлеб. Ты получишь свою долю. Я поспешно ответила, что не могу, — ведь белье чужое. — Как хочешь. Я и сама могу снять. Но скажу, что это сделала ты. И Двейреле подтвердит. Я взмолилась, чтобы она этого не делала, и со страха ляпнула, что принесу что-нибудь другое, свое. Я не знала, что делать. Маме рассказать не решалась, — она будет меня упрекать, что с ними дружу. А я не дружу, просто видела, что у них много хлеба. На следующий вечер Ривка меня опять вызвала во двор. Спросила, где обещанное. Я сказала, что не смогла взять. Она пригрозила, что если завтра тоже приду с пустыми руками, то очень пожалею. С мамой я опять не решилась поделиться своими переживаниями. А когда они с Мирой ушли на работу, я Раечку с Рувиком послала с кастрюльками во двор за водой, и вытащила из нашего мешка мамину сумочку. Она ей здесь не нужна. Ривка сумкой была недовольна, — за нее ничего не дадут. Наутро меня разбудил непривычный шум. Акция? Но никто не собирает в спешке вещи. Рыдает одна тетя Лея. Остальные ее утешают, говорят, что, может, еще найдутся. Но она не слушает, целует дочку, Липочку, и просит у нее прощения. А дядя Лазарь ругает жену, что она эти часы, наверно, выронила, когда вытряхивала на лестнице подстилку. Наконец мама мне объяснила, что у них пропали золотые часы, которые лежали под подушкой. Что за эти часы какой-то крестьянин обещал спрятать у себя на хуторе Липочку. Она через три дня должна была с работы не вернуться в гетто и встретиться с ним на условленном месте. А теперь все пропало. Украли не часы, а жизнь. Я сразу догадалась, кто их взял. Но боялась сказать — Ривка свалит вину на меня. И ей поверят. А если промолчу, Липочка не сможет спастись. Пока я раздумывала — говорить или нет — мама и остальные взрослые ушли на работу. Ривка осталась, — ей, видно, во вторую смену. И вдруг я решила… Я решила сама выманить у нее эти часы. Только как? Она же мне не признается, что взяла. Надо ее задобрить. Принесу еще что-нибудь. Но что? Свою школьную форму, в которой пришла в гетто? Скажет — кому тут нужна форма литовской школы? Да и что сама буду носить зимой? У меня же только одно летнее платье, которое на мне. Мамину блузку? Она собирается выменять ее на горох. Мирин вязаный капюшон? Нет, надо отдавать только свое. И я отдала Ривке свою форму. Она была недовольна, — за нее тоже ничего не дадут. — Дадут! — уверяла я. — Она теплая, шерстяная. — И неожиданно выпалила: — А еще я знаю, кому можно продать золотые часы. — Никаких часов у меня нет! — буркнула она сердито и, потащив за собою Двейреле, выбежала. Я испугалась, что она заторопилась их сразу выменять. Корила себя, что утром ничего не сказала дяде Лазарю. Тогда она еще, наверно, не успела их спрятать, и их бы нашли. А теперь она их унесла… Я стояла во дворе, и повторяла мамины слова, что украли не часы, а жизнь. Ривка с Двейреле будут в уборной есть хлеб, а Липочка погибнет… Неожиданно Ривка вернулась, и сунула мне в руку что-то твердое, завернутое в тряпочку. — Спрячь. Завтра заберу. Но если посмеешь вякнуть… Найдут-то их у тебя. Кажется, еще никогда мне не было так плохо. Часы, конечно, вечером отдам дяде Лазарю. Но если он не поверит, что не я их взяла?.. Я не могу сказать, кто мне их дал. Тогда Ривка будет валить на меня. А что, если попросить маму, чтобы она вернула? Я ей все расскажу. Она поверит. Только за сумочку и форму будет ругать. Но я ей пообещаю, что зимой не буду жаловаться, что мне холодно в этом, летнем платье. Попрошу только, чтобы она из полотенца сшила рукава. Дядя Лазарь пришел с работы раньше мамы, и я ему сама отдала, — не терпелось их успокоить. Но попросила не спрашивать, у кого они были. Потому что не могу сказать. А он так обрадовался, что поцеловал меня в лоб и шепнул жене: — Нашлись! Часы нашлись! Тетя Лея опять расплакалась, снова кинулась целовать Липочку. В комнате тоже стали радоваться, расспрашивать, где они были. Но дядя Лазарь махнул рукой: — Какая разница? Нашлись — и слава Богу! В сторону Ривки я боялась взглянуть. И она, кажется, на меня не смотрела. Только назавтра, пройдя мимо меня, больно торкнула в бок, и прошипела: — Ты еще пожалеешь! Пожалела. Только о том, что ее и Двейреле вскоре забрали… А Липочка, когда часы нашлись, в гетто не вернулась. Значит, встретилась с этим крестьянином, и он увез ее в деревню… Весь этот эпизод, поскольку я не могла, как того требовал рецензент, назвать, какой конкретно крестьянин взял за спасение Липочки золотые часы, Шамарина вычеркнула. Зато против следующего исправления — изъятия фамилий трех партизан, потому что в рецензии сказано, что они "по имеющимся данным не были участниками партизанского движения" — я восстала. — Значит, в институте неполные данные. — Этот вопрос не в нашей с вами компетенции, — подчеркнуто официально изрекла Шамарина. А прочтя свои фамилии, они потребуют персональных пенсий, ведь книга документальная. У меня перехватило дыхание. — Не потребуют. Их повесили… После собственной проверки Шамарина, видно, еще не считала рукопись достаточно готовой к печати. Теперь она обязала всех своих редакторов ее прочесть и высказаться на общем обсуждении. Оно, естественно, проходило без меня. Хорошо хоть, что замечания были не очень существенными и в основном относились к стилистике. Кроме одного… Кто-то (Пагирис не назвал фамилий выступавших) усомнился, стоит ли оставлять мое посвящение памяти мамы и детей. Объяснял тем, что на эти несколько слов придется выделить целую страницу, а с бумагой трудно. Узнав об этом, я еле справилась со своим возмущением, хотя старалась говорить спокойно. Я объясняла Пагирису, что могилы у моей мамы, сестренки и маленького брата нет. Я даже не знаю, где, в каком месте их пеплом удобрены поля. А эта книжка, кроме всего прочего — мой памятник им. И если единственной причиной, из-за которой не хотят оставить посвящение, на самом деле является экономия бумаги, то я готова в начале книжки сократить несколько абзацев и высвободить место для посвящения, притом согласна, чтобы оно было не на отдельной странице, а непосредственно перед началом текста. — Посмотрим, — сказал он равнодушно. — Посоветуемся. Ночью я не могла уснуть. Упрекала себя, что должна была более решительно настаивать. Не ограничиться разговором с Пагирисом, а пойти к Шамариной. В конце концов, к директору издательства. Я и так много уступала. Но неожиданно вспыхнула пугающая мысль: а может, они только этого и ждут: чтобы я отказалась выполнить их указания? Тогда у них появится повод расторгнуть договор и не издавать книжку. Все равно не соглашусь. Завтра же пойду к ней. Объясню, что посвящение не относится к идеологии, что я не претендую на отдельную страницу. Я буду настаивать на том, чтобы посвящение оставили. Это не просто посвящение… К счастью, настаивать не пришлось. Шамарина довольно легко согласилась оставить посвящение перед текстом, не выделяя отдельной страницы, и рукопись ушла в типографию. Позже, уже в корректуре, мне улыбнулась еще одна удача: в описании ночи охоты за Витенбергом удалось восстановить вычеркнутые Пагирисом слова: "Не знаю, сколько сама буду жить, но за это я должна быть благодарна Витенбергу. Сегодня он меня спас. Не только меня — маму, Миру, детей, тысячи матерей и детей…" Дело в том, что наборщик по ошибке на соседней с описанием этой ночи странице дважды набрал один и тот же абзац. Поэтому вместо него следовало где-то поблизости вписать другие три строчки. Я напомнила Пагирису, что даже когда вешают преступника, приговоренного к смертной казни, и срывается веревка, ему даруют жизнь. Пагирису пришлось "помиловать" и мою благодарность Витенбергу… Оставалась еще одна, очень пугающая инстанция — Главлит, то есть цензура. Но, как ни странно, она новых жертв не потребовала, и 15-го ноября 1963-го года книжка была подписана к печати. Вскоре я держала в руках ее сигнальный экземпляр. Мои геттовские и лагерные записи стали книжкой. Просто небольшой книжкой. Таких, как эта, будет восемь тысяч. Их развезут по книжным магазинам. Кто-то, полистав ее, отложит в сторону, — ни к чему ему страдания евреев… А кто-то все же, наверно, купит. Будет читать. Исполнится наше тогдашнее желание, чтобы жившие по ту сторону оград люди хотя бы после войны узнали правду. Я стояла в пустом кабинете Шамариной и держала свою книжку. На обложке с несколько абстрактным рисунком женской головы было напечатано М.Рольникайте. Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ.