Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение - [3]
В задачу данного исследования входит не описание среднего советского опыта, а анализ нарастающих внутренних сдвигов и изменений советской системы, которые долгое время оставались незаметными и для обычных советских граждан, и для политических руководителей, но благодаря которым внутри системы постепенно зрели условия для ее неожиданного обвала — не причины (якобы приведшие к обвалу), а именно условия (сделавшие обвал возможным, хотя и не неизбежным). Для того чтобы иметь возможность проанализировать этот нарастающий, но малозаметный процесс внутренних изменений и сдвигов системы, требуется выбирать исследовательский материал не просто по принципу его «репрезентативности» — по крайней мере, не исходя из критерия репрезентативности, понятого традиционным образом. Как отмечает автор, исследовательский «материал, заведомо подбирающийся по принципу репрезентативности, ориентирован на анализ уже известных норм и состояний», в то время как материал, выявляющий, «как нормы искажаются, нарушаются или доводятся до предела, и при этом система продолжает функционировать, дает возможность узнать нечто новое и о норме, и об ее изменениях…». Иными словами, выбранный объект исследования может являться нерепрезентативным с точки зрения существующей на данный момент статистической нормы, которая характерна для данного общественно-исторического контекста. Поэтому такой материал может казаться нетипичным и не имеющим отношения к жизни большинства людей или к большинству возможных контекстов. Однако именно такой материал способен дать нам возможность «увидеть систему в динамике и заметить назревающие в ней сдвиги и трансформации». Этот материал выступает не как репрезентативное проявление нормы, а как симптом скрытых изменений системы (возможных и нарастающих отступлений от нормы).
Подобный подход к изучению симптомов внутренних изменений системы применяется в целом ряде разделов этой книги — например, при анализе действий «некрореалистов» и других художественных групп конца 1970-х — начала 1980-х годов (глава 7). Явления и группы, подобные им, были далеки от статистической и политической нормы советского поведения, то есть не были репрезентативны с точки зрения этой нормы, и поэтому реже всего попадают в поле зрения традиционных политологических и социологических исследований. Однако сам факт того, что подобные явления появились и стали развиваться в определенный период советской истории, указывает на важные внутренние изменения советской системы. Не будучи нормой советской жизни, они были симптомом ее внутренних и до поры до времени незаметных изменений.
Хотя многие явления рассматриваются в этой книге именно как симптомы внутренних изменений системы, это не единственный аналитический метод, которым пользуется автор.
«Нормальные» люди
Чтобы продолжить описание некоторых элементов предложенного в этой книге подхода, разберем нескольких критических замечаний, прозвучавших в ее адрес. Большинство этих замечаний относятся к одной из двух интеллектуальных парадигм. Первую, довольно широко представленную в сегодняшней России, иногда называют «новой антропологией». Эта интеллектуальная парадигма неоднородна — в ней заметны как минимум три точки зрения на то, каким должен быть объект антропологического исследования. Согласно первой точке зрения, задача антропологии заключается в анализе того, как простой человек конструирует свое будущее путем достижения «личной автономии», а также в критике того, как технологии власти препятствуют созданию этой автономии. Согласно второй точке зрения, антропология должна заниматься анализом культурного разнообразия и критикой государственных попыток уменьшить это разнообразие, посредством сведения его к единой национальной культуре. Согласно третьей точке зрения, задача антропологии заключается в изучении «субъектности» — того, как современный субъект формируется в процессе взаимоотношения с общественными институтами и с некой материальной субстанцией, именуемой в этом подходе «культурой»>{3}.[1] Кроме того, согласно всем этим трем точкам зрения в задачу антропологии должна также входить критика некой «доминирующей идеологии», которой является, по мнению одних авторов, либерализм, по мнению других авторов — позитивизм, и по мнению третьих — постмодернизм. Итак, эти взгляды характерны для российской «новой антропологии».
Вторая интеллектуальная парадигма, с позиции которой прозвучало несколько критических замечаний (и которая, тем не менее, несколько ближе к данной книге, чем парадигма «новой антропологии»), относится к «антитоталитарной» модели советской истории[2]. У истоков этой парадигмы лежали дебаты I960–1980-х годов между западными политологами и историками, изучавшими социалистические страны. В более ранний период многие из этих исследователей занимались анализом государства, фокусируясь на изучении технологий государственного насилия и особых субъектов — политических элит, опиравшихся на это насилие. Позже историки, под влиянием социологического, а затем и культурологического «поворотов» в истории начали изучать более сложные
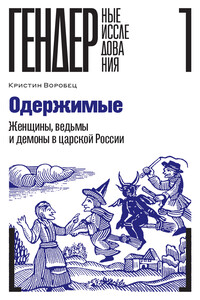
Одержимость бесами – это не только сюжетная завязка классических хорроров, но и вполне распространенная реалия жизни русской деревни XIX века. Монография Кристин Воробец рассматривает феномен кликушества как социальное и культурное явление с широким спектром значений, которыми наделяли его различные группы российского общества. Автор исследует поведение кликуш с разных точек зрения в диапазоне от народного православия и светского рационализма до литературных практик, особенно важных для русской культуры.
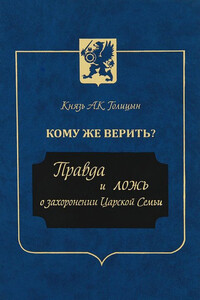
2013-й год – юбилейный для Дома Романовых. Четыре столетия отделяют нас от того момента, когда вся Россия присягнула первому Царю из этой династии. И девять десятилетий прошло с тех пор, как Император Николай II и Его Семья (а также самые верные слуги) были зверски убиты большевиками в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге в разгар братоубийственной Гражданской войны. Убийцы были уверены, что надёжно замели следы и мир никогда не узнает, какая судьба постигла их жертвы. Это уникальная и по-настоящему сенсационная книга.
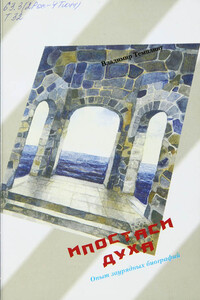
В книге повествуется о жизненных путях четырёх типичных для сибирского социального пейзажа фигур: священника-миссионера П. А. Попова, крестьянина, ставшего купцом-предпринимателем, Н. М. Чукмалдина, чиновника и одновременно собирателя фольклора П. А. Городцова, ссыльного религиозного оппозиционера П. В. Веригина, живших примерно в одно время (XIX – начало XX в.) – в бурную эпоху буржуазной модернизации. Их биографии – пример различных вариантов разворачивания жизненного пути на переходном этапе развития общества.Книга предназначена для историков, краеведов, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами истории края.
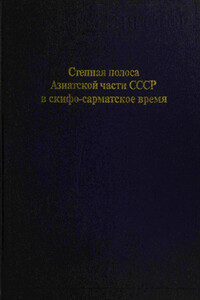
Том посвящен кочевникам раннего железного века (VII в. до н. э. — IV в. н. э.), населявшим степи Азии от Урала до Забайкалья. В основу издания положен археологический материал, полученный при раскопках погребальных и бытовых памятников. Комплексный анализ археологических источников в совокупности со сведениями древних авторов позволил исследователям реконструировать материальную и духовную культуру древних кочевников, дать представление об их хозяйстве, общественном строе, взаимоотношениях с окружающим оседлым населением, их экономическом развитии.

Чудесные исцеления и пророчества, видения во сне и наяву, музыкальный восторг и вдохновение, безумие и жестокость – как запечатлелись в русской культуре XIX и XX веков феномены, которые принято относить к сфере иррационального? Как их воспринимали богословы, врачи, социологи, поэты, композиторы, критики, чиновники и психиатры? Стремясь ответить на эти вопросы, авторы сборника соотносят взгляды «изнутри», то есть голоса тех, кто переживал необычные состояния, со взглядами «извне» – реакциями церковных, государственных и научных авторитетов, полагавших необходимым если не регулировать, то хотя бы объяснять подобные явления.

Предлагаемая читателю книга посвящена истории взаимоотношений Православной Церкви Чешских земель и Словакии с Русской Православной Церковью. При этом главное внимание уделено сложному и во многом ключевому периоду — первой половине XX века, который характеризуется двумя Мировыми войнами и установлением социалистического режима в Чехословакии. Именно в этот период зарождавшаяся Чехословацкая Православная Церковь имела наиболее тесные связи с Русским Православием, сначала с Российской Церковью, затем с русской церковной эмиграцией, и далее с Московским Патриархатом.