Эстетика и литература. Великие романы на рубеже веков - [97]
В этом заключается мотив «пробуждения от чар», так глубоко укоренившийся в творчестве Кафки: никакая целостность невозможна, так как всё целиком не может быть озарено, не может быть представлено, не может быть сказано; остаются лишь фрагменты. Творчество Кафки и есть эта фрагментарность. В этом смысле прав Беньямин, когда утверждает, что такая фрагментарность и «дотошность» дают основание для бесконечных размышлений:
На самом же деле в нескончаемости этой у Кафки явлена боязнь конца. Проще говоря, его повествовательная дотошность имеет совершенно иной смысл, чем просто подробность того или иного романного эпизода. Романы самодостаточны. Книги Кафки таковыми не являются никогда, это истории, чреватые моралью, которую они долго вынашивают, но на свет не произведут никогда… он как писатель и учился вовсе не у великих романистов, а у гораздо более скромных авторов, у рассказчиков>10.
Таким образом, Беньямин подчёркивает различие между романом и повествованием, которого будет строго придерживаться, и которое впоследствии будет им развито во внушительном эссе Рассказчик. То есть, произведения Кафки суть рассказы, поскольку для них естественно возвращаться к одному и тому же снова и снова, а не «самодостаточные» романы, претендующие на достижение некого заключения, питая себя – и теша нас – иллюзиями, что целостность ещё возможна. Так, продолжает Беньямин, то, «что закон как таковой так ни разу и не берёт слова – именно в этом, но ни в чём другом, и есть милостивое снисхождение фрагмента»>11, и именно это, согласно Беньямину, делает искусство Кафки «пророческим»>12.
Пророческое искусство – это искусство, возвещающее не будущее как продолжение настоящего, но будущее, грядущее, невозможное, которое не может быть прожито и которое должно перевернуть само наше настоящее. По утверждению Мориса Бланшо, «когда слово делается пророческим – это не грядущее дано, это отнято настоящее»>13. Пророческое слово – это слово в пустыне, в необитаемом пространстве, где можно только скитаться, где человек всегда «вне», всегда бесприютен, потому что там нет пристанища, где время, лишённое настоящего и прошлого – не более чем время ожидания. Но, продолжает Бланшо, «когда всё невозможно… тогда пророческое слово, говорившее о грядущем как невозможном, говорит ещё «и всё же», которое разбивает невозможность на куски и восстанавливает время»>14.
В этом – смысл того понятия «поворота», который составляет, согласно Беньямину, «мессианскую категорию у Кафки»>15. В самом деле, «Ничто» настоящего, невозможность найти в настоящем смысл и истину, невозможность в нём даже надеяться, не должны, однако, мыслиться, в случае Кафки, как нечто, что мы должны преодолеть, так как именно эта попытка преодоления Ничто «как понимают его теологические толкователи из окружения Брода, была бы для Кафки ужасом»; Кафка же, как говорит Беньямин, «силится нащупать спасение даже не в самом этом «Ничто», а, если так можно выразиться, в его изнанке, в подкладке его»>16. Так надежда у Кафки может родиться только из самой глубокой безнадёжности, как спасительное слово может обнаружиться только после того, как пришло осознание радикального бессилия слова.
6. Нетерпение, память, забвение
Истоки бессилия слова высказать целостность и вытекающую, как следствие, фрагментарность произведений Кафки следует искать в том, что у Кафки называется «Слабая память…. только какие-то осколки целого» (OQO III, 708). Если дверь уже открыта, а человек продолжает вопрошать – значит, он забыл ответ. Уже Беньямин увидел в забвении ту неведомую вину, что навлекает процесс против Йозефа К., и в то же время утверждал, что «Этими конфигурациями забвения, умоляющими призывами к нам наконец-то вспомнить и опомниться, творчество Кафки заполнено сплошь»>17. Теперь для Кафки «главный грех» – это нетерпение в желании всё вспомнить, в желании всё объяснить, поскольку «Все человеческие ошибки – от нетерпения» (OQO III, 709); и ещё:
У людей два главных греха, из которых вырастают все остальные: нетерпение и вялость. За свое нетерпение они были изгнаны из рая, а из-за своей вялости они не возвращаются туда. Но может быть, главный грех только один: нетерпение. За нетерпение были изгнаны, из-за нетерпения и не возвращаются. (там же)
То есть, с одной стороны Беньямин говорит о «конфигурациях забвения», которыми заполнено творчество Кафки, и вместе с тем о «умоляющих призывах к нам наконец-то вспомнить»; с другой – Кафка говорит о «слабой памяти» и вместе с тем о нетерпении как о «главном грехе». Дело в том, что существует теснейшая связь между забвением и нетерпением. Не случайно Беньямин отмечает, как безмолвный «умоляющий призыв к нам наконец-то вспомнить» превращается у Кафки в необходимость «внимать». В самом деле, Беньямин пишет в своём эссе о Кафке: «Даже если сам Кафка и не молился, – чего мы не знаем, – ему было в высшей степени присуще то, что Мальбранш называет «природной молитвой души», – дар внимания»>18. И дар внимания, будучи молитвой, умоляющим призывом – безмолвен, как и она, ведь он рождается от бессилия слова. Тогда нетерпение – это желание преодолеть это бессилие, не признавая в нём необходимости, и, как следствие, оно идёт против необходимого терпения – терпения, требуемого тем вниманием, которое есть безмолвная молитва. Нетерпение – это романтическое желание абсолюта, желание обрести целостность; нетерпение – это выдумка, «ложь романтизма». «Правда романа» Кафки рождается из осознания что нам не дано надеяться, что весть Императора никогда не найдёт нас, что никакое спасение не избавит нас от нашей конечности и смертности, что никакая «земля обетованная» не освободит нас от наших бесцельных скитаний по пустыне. И всё же мы должны надеяться, потому что мы

В молодости Пастернак проявлял глубокий интерес к философии, и, в частности, к неокантианству. Книга Елены Глазовой – первое всеобъемлющее исследование, посвященное влиянию этих занятий на раннюю прозу писателя. Автор смело пересматривает идею Р. Якобсона о преобладающей метонимичности Пастернака и показывает, как, отражая философские знания писателя, метафоры образуют семантическую сеть его прозы – это проявляется в тщательном построении образов времени и пространства, света и мрака, предельного и беспредельного.
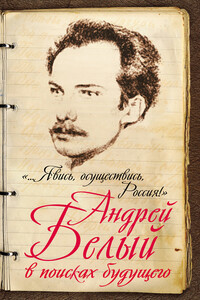
Подготовленная к 135-летнему юбилею Андрея Белого книга М.А. Самариной посвящена анализу философских основ и художественных открытий романов Андрея Белого «Серебряный голубь», «Петербург» и «Котик Летаев». В книге рассматривается постепенно формирующаяся у писателя новая концепция человека, ко времени создания последнего из названных произведений приобретшая четкие антропософские черты, и, в понимании А. Белого, тесно связанная с ней проблема будущего России, вопрос о судьбе которой в пору создания этих романов стоял как никогда остро.
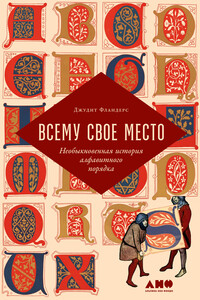
Книга историка Джудит Фландерс посвящена тому, как алфавит упорядочил мир вокруг нас: сочетая в себе черты академического исследования и увлекательной беллетристики, она рассказывает о способах организации наших представлений об окружающей реальности при помощи различных символических систем, так или иначе связанных с алфавитом. Читателю предстоит совершить настоящее путешествие от истоков человеческой цивилизации до XXI века, чтобы узнать, как благодаря таким людям, как Сэмюэль Пипс или Дени Дидро, сформировались умения запечатлевать информацию и систематизировать накопленные знания с помощью порядка, в котором расставлены буквы человеческой письменности.

Стоит ли верить расхожему тезису о том, что в дворянской среде в России XVIII–XIX века французский язык превалировал над русским? Какую роль двуязычие и бикультурализм элит играли в процессе национального самоопределения? И как эта особенность дворянского быта повлияла на формирование российского общества? Чтобы найти ответы на эти вопросы, авторы книги используют инструменты социальной и культурной истории, а также исторической социолингвистики. Результатом их коллективного труда стала книга, которая предлагает читателю наиболее полное исследование использования французского языка социальной элитой Российской империи в XVIII и XIX веках.

У этой книги интересная история. Когда-то я работал в самом главном нашем университете на кафедре истории русской литературы лаборантом. Это была бестолковая работа, не сказать, чтобы трудная, но суетливая и многообразная. И методички печатать, и протоколы заседания кафедры, и конференции готовить и много чего еще. В то время встречались еще профессора, которые, когда дискетка не вставлялась в комп добровольно, вбивали ее туда словарем Даля. Так что порой приходилось работать просто "машинистом". Вечерами, чтобы оторваться, я писал "Университетские истории", которые в первой версии назывались "Маразматические истории" и были жанром сильно похожи на известные истории Хармса.

Книга рассказывает о жизни и сочинениях великого французского драматурга ХVП века Жана Расина. В ходе повествования с помощью подлинных документов эпохи воссоздаются богословские диспуты, дворцовые интриги, литературные битвы, домашние заботы. Действующими лицами этого рассказа становятся Людовик XIV и его вельможи, поэты и актрисы, философы и королевские фаворитки, монахини и отравительницы современники, предшественники и потомки. Все они помогают разгадывать тайну расиновской судьбы и расиновского театра и тем самым добавляют пищи для размышлений об одной из центральных проблем в культуре: взаимоотношениях религии, морали и искусства. Автор книги переводчик и публицист Юлия Александровна Гинзбург (1941 2010), известная читателю по переводам «Калигулы» Камю и «Мыслей» Паскаля, «Принцессы Клевской» г-жи де Лафайет и «Дамы с камелиями» А.