Эстетика и литература. Великие романы на рубеже веков - [105]
Герои Беккет, как уже сказано, ничего не ищут и ничего не ждут, и, несмотря на это, они только и делают, что ждут, поскольку ожидание для них – это единственная возможная форма существования. Таков при этом и сам текст Беккета: он исключает всё то, что несущественно, и ожидает, что появится сущность – которая, однако, не существует. Именно здесь хорошо заметно всё то расстояние, что лежит между Беккетом и Джойсом. «Апофеозу слова» у Джойса, который готов заменить мир языком, Беккет противопоставляет свои поиски «бессловесной литературы»>5. Поэтому, как написал Аль до Тальяферри,
Беккет и Джойс оба отталкиваются от языка, и каждый приходит к языку, к литературному произведению, но с последствиями радикально различными благодаря тому, что первый разрушает в языке всё то, что второй – словотворец, logodaidalos – намеревается создать. Если язык Беккета передаётся потенциально и непрерывно с помощью накала юмора, то это ещё и следствие того, что в нём ставится с ног на голову и выставляется на посмешище та всеобъемлющая схема, на которую опираются Поминки по Финнегану>6.
То, что для Джойса является поисками целостности, для Беккета – это «гибель», и как таковая – это знак оставленности, той целостности, которой больше нет; это то, что делает слово Беккета «печальным».
Здесь хорошо заметно и всё то расстояние, что лежит между Беккетом и Прустом. В самом деле, в отличие от Пруста, признающего, что в искусстве возможно достигнуть целостности – то есть смысла – Беккет, хоть и прочитал с упоением прустовские Поиски, посвятив им значительное эссе в молодости>7, далёк от мысли, что литература позволяет понять смысл жизни. В видении мира по Беккету не празднуется никакой победы искусства, и никакое воспоминание не может заменить собой сущность – не более чем иллюзию – отсутствие которой слабо передаётся словами. Но если у героев Беккета – как, например, у Винни из Счастливых дней – ещё остались какие-то воспоминания, дающие представление о течении времени, то воспоминания эти непродолжительны и засыпаются песком, который стирает всякую идентичность; то же и в Последней плёнке Крэппа – заглавный герой постоянно стирает самого себя, стирая то единственное воспоминание, которое ещё живёт в нём.
Беккет всё время рассказывает нам о человечестве, продолжающем жить лишь благодаря тому, что говорит. Поэтому в его произведениях находим мы мир, в котором человек не может ни умереть – так как он не живёт – ни жить – так как ему не удаётся умереть. Всё это явным образом читается и в Ожидании Годо, в Конце игры, в Счастливых днях и во всех прочих пьесах, не считая романов. В Счастливых днях, например, Винни – это не более чем её собственные слова, и она без конца возвещает о дне, когда все слова будут тщетны. Она не может ни жить, ни умереть – это слово, заявляющее о собственном бессилии. И если в Ожидании Годо царит бесконечное ожидание – в Счастливых днях Винни своими словами как раз даёт понять, что ей нечего больше сказать, и что ожидание будет лишь длиться и длиться в пустоте отсутствия.
Тем не менее, остаётся фактом, что Беккет, даже будучи убеждён, что литература не служит нам для понимания мира, однако не отказывается от неё, так как для него писать – это единственно возможный способ жить. Беккет делает сам процесс писания главной темой своего творчества; нужно непрерывно продолжать говорить и писать, как подтверждают последние слова Безымянного: «невозможно прекратить, невозможно продолжать, но я должен продолжать, я буду продолжать, необходимо говорить слова… необходимо продолжать, я буду продолжать» (Inn, 464). Так, Моллой в начале романа – где, по сути, его история заканчивается – должен вот-вот ослепнуть, онеметь, оглохнуть и слечь прикованным к постели; однако он ещё на что-то способен: единственное, что ему осталось – это говорить и писать. От книги к книге герой повествований Беккета всё больше и больше деградирует: вначале, даже будучи тяжело болен, он ещё способен перемещаться, затем постепенно руки и ноги отказывают ему, так что он не в состоянии даже ползать, он заперт сначала в комнате, а затем и вовсе в кувшине, где, превратившись в немой гниющий торс, он полностью разлагается. Жить для этих героев невозможно, и всё же их умирание бесконечно, как бесконечен и их рассказ; действительно, если с одной стороны они чувствуют необходимость произнести молчание с другой – ощущают невозможность достигнуть этой цели.
3. Безличный голос
«Кто говорит в книгах Сэмюэла Беккета? Кто этот неутомимый V, кажется твердящий всегда одно и то же?» – спрашивает себя Бланшо

На протяжении всей своей истории люди не только создавали книги, но и уничтожали их. Полная история уничтожения письменных знаний от Античности до наших дней – в глубоком исследовании британского литературоведа и библиотекаря Ричарда Овендена.

Обновленное и дополненное издание бестселлера, написанного авторитетным профессором Мичиганского университета, – живое и увлекательное введение в мир литературы с его символикой, темами и контекстами – дает ключ к более глубокому пониманию художественных произведений и позволяет сделать повседневное чтение более полезным и приятным. «Одно из центральных положений моей книги состоит в том, что существует некая всеобщая система образности, что сила образов и символов заключается в повторениях и переосмыслениях.
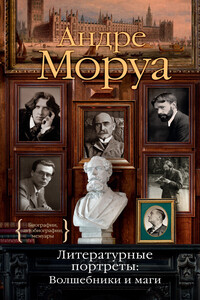
Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку о ком-либо из коллег по цеху, не было случайным.

Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку, посвященному тому или иному коллеге по цеху, – не было случайным.
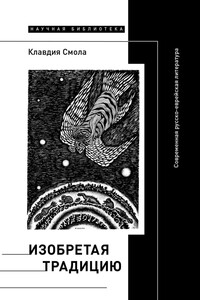
Как литература обращается с еврейской традицией после долгого периода ассимиляции, Холокоста и официального (полу)запрета на еврейство при коммунизме? Процесс «переизобретения традиции» начинается в среде позднесоветского еврейского андерграунда 1960–1970‐х годов и продолжается, как показывает проза 2000–2010‐х, до настоящего момента. Он объясняется тем фактом, что еврейская литература создается для читателя «постгуманной» эпохи, когда знание о еврействе и иудаизме передается и принимается уже не от живых носителей традиции, но из книг, картин, фильмов, музеев и популярной культуры.

Что такое литература русской диаспоры, какой уникальный опыт запечатлен в текстах писателей разных волн эмиграции, и правомерно ли вообще говорить о диаспоре в век интернет-коммуникации? Авторы работ, собранных в этой книге, предлагают взгляд на диаспору как на особую культурную среду, конкурирующую с метрополией. Писатели русского рассеяния сознательно или неосознанно бросают вызов литературному канону и ключевым нарративам культуры XX века, обращаясь к маргинальным или табуированным в русской традиции темам.