Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России (1725–1762 гг.) - [2]
Основная цель исследования состоит в выявлении закономерностей появления, функционирования и развития феномена дворцового переворота в отечественной политической истории, что необходимо для подтверждения выделения периода 1725–1762 гг. в качестве особого этапа развития российской модели самодержавной монархии. Мы попытались установить причины появления серии дворцовых переворотов в контексте развития российской государственности. Предложена типология дворцовых переворотов в зависимости от их целей и круга участников; прослежено влияние политической борьбы на изменения персонального состава руководства коллегий, ряда других центральных учреждений и губерний Российской империи; сделана попытка выявить связь «переворотных» действий с различными уровнями политического сознания российского дворянства.
Ключевым понятием в работе является «дворцовый переворот». Современники самой «эпохи дворцовых переворотов» именовали их «великим и редким делом», «предприятием», «переменой».[16] Неизвестный русский мемуарист употреблял целый набор слов: «заговор», «смелое» или «дерзновенное предприятие», «вступление в правление», «счастливое событие», «перемена», «удар».[17] Историк М. М. Щербатов в отношении вельмож предпочитал говорить о «падении», а переворот 1762 г. определял как «возмущение».[18]
Использовался для обозначения явления и термин «революция» (со значением «серьёзное изменение», «отмена»[19]). По-видимому, такое понятие стало наиболее употребительным в России: так характеризовали события 1762 г. и автор популярного сочинения о перевороте 1762 г. француз К. Рюльер, А. Р. Воронцов, А. Т. Болотов и Г. Р. Державин.[20] Однако в русский язык XVIII столетия это слово не вошло; словарь Российской Академии (под редакцией Е. Р. Дашковой) и другие словари того времени его (как и русский синоним «переворот») не содержат.[21]
В то же время писавшие по-французски авторы употребляли применительно к российским реалиям 1740–1741 гг. термин «coup» («удар»), «coup d'etat» или «revolution»; как синонимы их использовал Фридрих II.[22] Екатерина II избегала какого-либо определения совершённого ею переворота; но в письме на русском языке (10 июля 1764 г.) к Н. И. Панину охарактеризовала неудавшуюся попытку В. Мировича возвести на престол Ивана Антоновича как «дешператный и безрассудный coup».[23] Таким образом, язык самой эпохи, по-видимому, не знал чётких определений и границ явления. Можно, пожалуй, выделить только одну закономерность: указанные выше понятия «coup», «coup d'etat» или «revolution» применялись только к переворотам 1740–1741 и 1762 гг.; политические конфликты 1725 г., 1727 г. и 1730 г. ни отечественными, ни зарубежными авторами так не характеризовались.
Впервые использовавший понятие «дворцовый переворот» применительно ко всем известным акциям такого рода в XVIII в.[24] С. М. Соловьёв, по-видимому, не придавал ему особого значения и употреблял параллельно такие обозначения, как «заговор», «восстание», «переворот», «правительственный переворот», «свержение», «переворот в правительстве» даже по отношению к одному и тому же событию 1762 г.[25] Ключевский термин «дворцовый переворот» применял по отношению ко всем «силовым» акциям по занятию трона в 1725–1762 гг., но при этом события 1730 г. определял как «движение», а воцарение Елизаветы — как «гвардейский переворот». Одни и те же события называл «дворцовым» и «государственным» переворотом и С. Ф. Платонов, М. М. Богословский считал «государственными переворотами» только события 1741 и 1762 гг.[26] В современной научной литературе также отсутствует единое понимание и определение интересующего нас понятия.[27]
В западной политологической терминологии формула «coup d'etat» (государственный переворот) подразумевает неконституционный и большей частью насильственный захват верховной власти каким-либо лидером или группой лиц. Однако употребляется данный термин по отношению к политическим системам Нового и Новейшего времени (XIX–XX вв.), преимущественно в «незападном мире» (Африка, Латинская Америка) и не включает российскую практику XVIII столетия.[28] Применительно же к российским реалиям в работах современных западных историков употребляются либо традиционное понятие «coup», либо кальки с русского — «palace coup» или «palace revolution» («Palastrevolution»), применяемые не только при характеристике переворотов 1740–1741, 1762 и 1801 гг., но и по отношению к политическим кризисам 1725 и 1730 гг.[29]
Мы считаем необходимым, вслед за В. О. Ключевским, более дифференцированно подходить к соответствующим политическим событиям XVIII (и не только) столетия. Во-первых, предлагается всё-таки разделить понятия «дворцовый» и «государственный» переворот: осуществление последнего означает какое-либо изменение существующего политического строя («формы правления»), тогда как первый меняет только фигуру правителя. В связи с этим мы полагаем вполне обоснованным суждение, что к числу дворцовых переворотов необходимо причислить и смещения ключевых фигур, подобных Меншикову или Бирону.[30] Во-вторых, нам представляется, что терминологическое разнообразие самих источников XVIII столетия предполагает наличие важных для современников отличий, достаточных для того, чтобы под привычной для нас формулировкой «дворцовый переворот» видеть явления не вполне тождественные и к тому же претерпевавшие эволюцию.
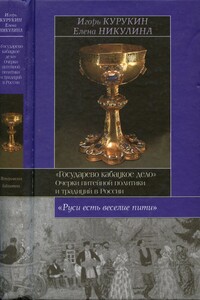
Книга посвящена появлению и распространению спиртных напитков в России с древности и до наших дней. Рассматриваются формирование отечественных питейных традиций, потребление спиртного в различных слоях общества, попытки антиалкогольных кампаний XVII–XX вв.Книга носит научно-популярный характер и рассчитана не только на специалистов, но и на широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей.

В XVIII веке в России впервые появилась специализированная служба безопасности или политическая полиция: Преображенский приказ и Тайная канцелярия Петра I, Тайная розыскных дел канцелярия времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, Тайная экспедиция Сената при Екатерине II и Павле I. Все они расследовали преступления государственные, а потому подчинялись непосредственно монарху и действовали в обстановке секретности. Однако борьба с государственной изменой, самозванцами и шпионами была только частью их работы – главной их заботой были оскорбления личности государя и всевозможные «непристойные слова» в адрес властей.

«Руси есть веселье питье, не можем без того быти» — так ответил великий киевский князь Владимир Святославич в 988 году на предложение принять ислам, запрещавший употребление крепких напитков. С тех пор эта фраза нередко служила аргументом в пользу исконности русских питейных традиций и «русского духа» с его удалью и безмерностью.На основании средневековых летописей и актов, официальных документов и свидетельств современников, статистики, публицистики, данных прессы и литературы авторы показывают, где, как и что пили наши предки; как складывалась в России питейная традиция; какой была «питейная политика» государства и как реагировали на нее подданные — начиная с древности и до совсем недавних времен.Книга известных московских историков обращена к самому широкому читателю, поскольку тема в той или иной степени затрагивает бóльшую часть населения России.
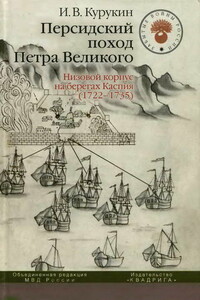
Автор на новом архивном материале освещает поход Петра 1722-1723 гг. на Западный Каспий и Кавказ (территория нынешних Дагестана и Азербайджана), приведший помимо прочего, к завоеванию Северного Ирана. Не только военные действия, но и последующая судьба экспедиционного корпуса, а также политика России в этом регионе до конца XVIII века стали предметом углубленного исследования.

Иван Грозный давно стал знаковым персонажем отечественной истории, а учреждённая им опричнина — одной из самых загадочных её страниц. Она является предметом ожесточённых споров историков-профессионалов и любителей в поисках цели, смысла и результатов замысловатых поворотов политики царя. Но при этом часто остаются в тени непосредственные исполнители, чьими руками Иван IV творил историю своего царствования, при этом они традиционно наделяются демонической жестокостью и кровожадностью.Книга Игоря Курукина и Андрея Булычева, написанная на основе документов, рассказывает о «начальных людях» и рядовых опричниках, повседневном обиходе и нравах опричного двора и службе опричного воинства.
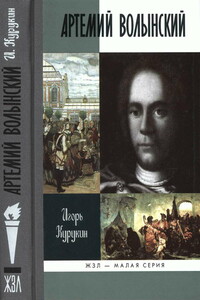
Один из «птенцов гнезда Петрова» Артемий Волынский прошел путь от рядового солдата до первого министра империи. Потомок героя Куликовской битвы участвовал в Полтавской баталии, был царским курьером и узником турецкой тюрьмы, боевым генералом и полномочным послом, столичным придворным и губернатором на окраинах, коннозаводчиком и шоумейкером, заведовал царской охотой и устроил невиданное зрелище — свадьбу шута в «Ледяном доме». Он не раз находился под следствием за взяточничество и самоуправство, а после смерти стал символом борьбы с «немецким засильем».На основании архивных материалов книга доктора исторических наук Игоря Курукина рассказывает о судьбе одной из самых ярких фигур аннинского царствования, кабинет-министра, составлявшего проекты переустройства государственного управления, выдвиженца Бирона, вздумавшего тягаться с могущественным покровителем и сложившего голову на плахе.

Книги завершает цикл исследований автора, опубликованных в Издательстве Казанского университета по македонской тематике. «История античной Македонии», часть 1, 1960; часть II. 1963; «Восточная политика Александра Македонского». 1976. На базе комплексного изучения источников и литературы вопроса рассматривается процесс распада конгломератных государств древности, анализируется развитие социальных, военно-политических и экономических противоречий переходной эпохи обновления эллинистических государств, на конкретном материале показывается бесперспективность осуществления идеи мирового господства. Книга написана в яркой образной форме, снабжена иллюстрациями.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.

На протяжении нескольких лет мы совместно с нашими западными союзниками управляли оккупированной Германией. Как это делалось и какой след оставило это управление в последующей истории двух стран освещается в этой работе.