Эпоха добродетелей. После советской морали - [67]
Нетрудно заметить, что такая «национальная идея» имеет исключительно рамочный характер; под ее эгидой возможно лишь «теневое», скрытное «продвижение целого ряда иных идеологем и их комплексов»290. Она привлекательна в силу своей формальной всеобщности, тем, что якобы может объединить под своей эгидой всех и вся. Такой же рамочный и формальный характер имеет для Путина Моральный кодекс строителя коммунизма – к нему и сводятся коммунистическая и социалистическая идеи. Главное – обременить россиян каким-то «священным долгом», которому бы они отдавали ритуальную дань, примерно такую же, какую они отдавали Моральному кодексу строителя коммунизма и прочей формалистической шелухе в позднем СССР.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Смысл этого небольшого исследования, упаси Боже, не в том, чтобы показать, что всякое социальное зло вырастает непременно из высоких чувств и благих намерений, то есть в данном случае из разного рода добродетелей – и тем самым оправдать его. Мы попытались найти относительно непротиворечивое объяснение тому, что миллионы хороших, честных, отнюдь не злых, часто благородных и самоотверженных, романтичных, чтущих верность и дружбу людей, будучи предоставлены самим себе и «невидимой руке рынка», на долгие годы сформировали не то чтобы «атомизированное посттрадиционное общество <…> с во многом разрушенными семейными традициями, низким уровнем солидаризма и самоорганизации»291, но холодное и унылое общество сограждан, не доверяющих ни «дальнему», ни государству – нисколько не изменив при этом ценностям, почерпнутым в детстве из правильных книг. Также мы хотели показать, почему сами по себе эти ценности не только не смогли стать преградой ни моральному коллапсу 1990-х годов, ни «бездуховности» последующих лет, но и в немалой степени им способствовали. Во многом именно результатом реализации этих ценностей стал моральный коллапс постсоветского общества 1990-х годов, который мы, однако, не считаем возможным адекватно описывать в привычных категориях краха некоей идеализированной высокой советской морали, вытесненной моралью более низкой, привнесенными извне «западными ценностями» и т. д. «Западные ценности», конечно же, сыграли свою роль (отчасти закваски, отчасти пустого означающего, под которым обнаруживалось для каждого что-то свое), но упали они на питательную почву советских разновидностей этики добродетели, неожиданно оказавшейся представленной самой себе. Также мы бы хотели надеяться, что отчасти наши объяснения облегчают и ответ на вопросы: почему «духовные скрепы» не оказывают того благотворного эффекта в наше время, которого ожидают от них власти; почему не возникло и не могло возникнуть на этой зыбкой почве никакой внятной «национальной идеи»?
Подытоживая, мы должны сказать, что великая криминальная революция, как и последовавшая за ней моральная эволюция постсоветского общества, питались энергией разрушения советского ценностного ядра. Тридцать лет назад многим казалось, что его распад сам собой приведет к торжеству универсальных ценностей, уже имевших место на воображаемом Западе. Однако никакого естественного ценностного транзита не случилось, а 1990-е годы стали волшебным негативным зеркалом, в который смотрится политический режим 2000–2010 годов, пытаясь получить легитимацию от противного. Таким образом, политические элиты играют на понижение, предъявляя обществу предельно приземленные, прагматичные и противоречивые ценности, которые образуют популистское лоскутное одеяло292. При этом они так и не предложили новой устойчивой иерархии, в виде которой только и может существовать любая ценностная система большого общества и поддерживающие ее представления об общем благе. В результате символический переход от либерально-рыночной к державно-патриотической риторике лишь укрепил корпоративную, рентно-сословную структуру общества, в котором все основные характеристики неопатримониальных политических элит, способы управления и непрозрачные режимы собственности не получили качественных ценностных и онтологических изменений на всем протяжении постсоветской истории. Э. Морен заметил по этому поводу, что, хотя в первые пятнадцать лет после распада СССР бывший русско-советский «маленький человек» совершенно изменился, получив свою долю потребительского рая, и удовлетворил мучившее его в советские времена «чаяние благополучия», стремление «жить для себя, для своих», «иметь удобный туалет, ванную, красиво одеться, хорошо провести отпуск»293, однако его «общий настрой, жизненная стратегия, тип обустройства в мире претерпели незначительную эволюцию. Люди ищут укрытия от враждебной социальной среды в своем частном мирке, стремятся перекрыть туда «доступ посторонним» и ощущают, как чужд им «руководящий господствующий класс»294.
Перспективы дальнейшей ценностной трансформации противоречивы. С одной стороны, необратимо нарастает коллективное разочарование в идеализированном Западе, который при более близком и массовом знакомстве оказался совокупностью разных обществ с собственными культурными и социально-экономическими противоречиями и с дифференцированными уровнями доступа к ресурсам для разных групп населения. С другой – российский политический порядок так и не смог предложить сильной институциональной и ценностной основы для справедливой и универсальной ценностной интеграции. Г. Юдин сравнивает современных российских граждан с «испуганными социальными атомами», чей радикальный индивидуализм не позволяет им создавать эффективные структуры коллективного действия, предназначенные
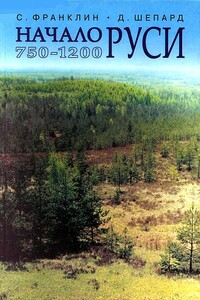
Монография двух британских историков, предлагаемая вниманию русского читателя, представляет собой первую книгу в многотомной «Истории России» Лонгмана. Авторы задаются вопросом, который волновал историков России, начиная с составителей «Повести временных лет», именно — «откуда есть пошла Руская земля». Отвечая на этот вопрос, авторы, опираясь на новейшие открытия и исследования, пересматривают многие ключевые моменты в начальной истории Руси. Ученые заново оценивают роль норманнов в возникновении политического объединения на территории Восточноевропейской равнины, критикуют киевоцентристскую концепцию русской истории, обосновывают новое понимание так называемого удельного периода, ошибочно, по их мнению, считающегося периодом политического и экономического упадка Древней Руси.
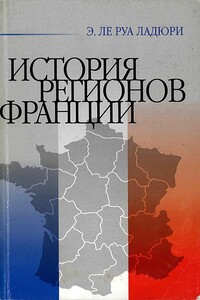
Эмманюэль Ле Руа Ладюри, историк, продолжающий традицию Броделя, дает в этой книге обзор истории различных регионов Франции, рассказывает об их одновременной или поэтапной интеграции, благодаря политике "Старого режима" и режимов, установившихся после Французской революции. Национальному государству во Франции удалось добиться общности, несмотря на различия составляющих ее регионов. В наши дни эта общность иногда начинает колебаться из-за более или менее активных требований национального самоопределения, выдвигаемых периферийными областями: Эльзасом, Лотарингией, Бретанью, Корсикой и др.

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

Пособие для студентов-заочников 2-го курса исторических факультетов педагогических институтов Рекомендовано Главным управлением высших и средних педагогических учебных заведений Министерства просвещения РСФСР ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ, Выпуск II. Символ *, используемый для ссылок к тексте, заменен на цифры. Нумерация сносок сквозная. .
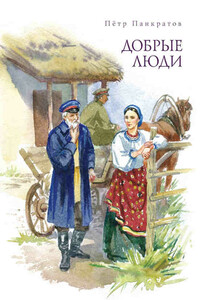
В книге П. Панкратова «Добрые люди» правдиво описана жизнь донского казачества во время гражданской войны, расказачивания и коллективизации.
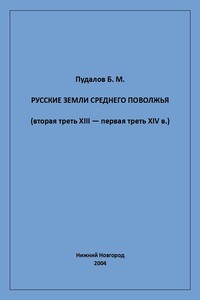
В книге сотрудника Нижегородской архивной службы Б.М. Пудалова, кандидата филологических наук и специалиста по древнерусским рукописям, рассматриваются различные аспекты истории русских земель Среднего Поволжья во второй трети XIII — первой трети XIV в. Автор на основе сравнительно-текстологического анализа сообщений древнерусских летописей и с учетом результатов археологических исследований реконструирует события политической истории Городецко-Нижегородского края, делает выводы об административном статусе и системе управления регионом, а также рассматривает спорные проблемы генеалогии Суздальского княжеского дома, владевшего Нижегородским княжеством в XIV в. Книга адресована научным работникам, преподавателям, архивистам, студентам-историкам и филологам, а также всем интересующимся средневековой историей России и Нижегородского края.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.