Эпоха добродетелей. После советской морали - [64]
СКРЕПЫ И ПУСТОТА
Трудно не заметить, что, хотя этика добродетели явно доминировала в постсоветском обществе, торжество ее было обильно приправлено ощущением какой-то безысходности. Оно осуществлялось, как выразился А. Иванов, в атмосфере эмоционального «ненастья», нахождения в экзистенциальном тупике. «Ненастье, – говорит по этому поводу писатель, – не просто ситуация, в которую попадают мои герои. Ненастье – это экзистенциальная западня. Когда оставаться в тупике бессмысленно, а выйти из него нельзя, и преодолеть судьбу можно лишь тем, что ты изменяешь самого себя. <…> Эти ситуации воспринимаются людьми как ловушки, потому что нет ни веры, ни идеологии в качестве ее эрзаца <…>. Я понимаю веру именно как религию, а не как надежду на спасение. Потому что для верующего человека экзистенция невозможна. Экзистенция – это острое переживание неких невозможностей жизни, границ бытия. Например, ты страдаешь, что тебя не любит тот, кого любишь ты. Верующий человек может найти утешение в том, что это воля Божья, так надо для духовного совершенства, что потом Господь воздаст за муки. Человек советской идеологии найдет утешение в труде ради строительства лучшего мира. А человек без веры и идеологии просто взвоет от безысходности. Это и есть экзистенция»279.
Трудно сказать, находились ли в плену такой «экзистенции» люди, правившие в этот период Россией, или они, найдя оптимальный баланс между советским добродетелями нижнего яруса и «готической» моралью, лично чувствовали себя относительно комфортно. Похоже все-таки, что комфорт был неполный, ибо они, придерживаясь нашей терминологии, все-таки нуждались хотя бы в иллюзии «верхнего этажа» морально-идеологической пирамиды. Им нужно было нечто, хотя бы формально санкционирующее те добродетели, которые привели их к жизненному успеху. Поэтому, «получив всю полноту власти, это новое поколение, сочетающее блатную романтику с тоской по „великой державе“ времен их молодости (курсив мой. – Л. Ф.), которую „боялись и уважали“, первым делом принялось восстанавливать „вертикаль власти“ и вернуло сталинский гимн»280. Как герой Салтыкова-Щедрина мучительно выбирал между конституцией, севрюжиной с хреном и «ободрать кого-нибудь», так и это поколение колебалось между желанием вступить в мафию и обидой за державу – и в итоге попыталось осуществить все разом.
Элитами (и не только) России постоянно ощущалась некоторая моральная ущербность российского социального бытия, проистекавшая из недостроенности моральной пирамиды ни сверху, ни снизу. Поэтому история постсоветской России во многом была историей попыток сформулировать, с одной стороны, «национальную идеологию» или «идею», а с другой – побудить народ разделять какие-то общие ценности. Но какие у нас были действительно общие ценности?
Был велик соблазн осмыслить имеющиеся в постсоветском обществе ценности как все еще «традиционные» и потому, так сказать, более высокие, чем сомнительные современные. В общественных науках этот соблазн подпитывался с разных сторон, в частности ростом популярности разных архаизирующих метафор, призванных описать постсоветское общество: сословность, неофеодализм, патримониализм, клиентелизм, кумовской капитализм и т. д. Отдельно следует упомянуть концепцию «советской цивилизации» С. Кара-Мурзы, в которой советское общество рассматривалось как индустриальное общество с во многом традиционными ценностями. В значительной степени с его подачи эти ценности начинали расцениваться в позитивном ключе, ибо ассоциировались со славной историей. Отсюда же вытекал и соблазн для официоза поднять эти ценности на щит.
Тем не менее данный соблазн в основном вытекал из недоразумения, поскольку сам объект внимания являлся следствием стратегии «изобретения традиции» в ее постсоветском варианте. Корни эта стратегия имела в относительно недавнем прошлом. Советское изобретение традиции не сводилось к постоянному напоминанию о жертвах прошлых поколений, о «боевых традициях» славного партийного и комсомольского прошлого. Параллельно с этим «происходило и обращение к „народным традициям“ как к основе преобразованного советского быта», как это было, например, в случае с праздником проводов зимы – советской версии Масленицы, которая включала «традиционные элементы, характерные не только для самой масленицы, но и для дореволюционной русской культуры вообще: сбитень, ярмарку, тележки, игры в снежки, народные хоры, кулачные бои и так далее»
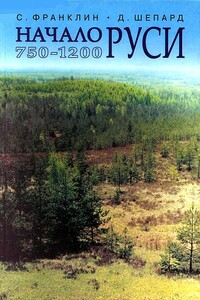
Монография двух британских историков, предлагаемая вниманию русского читателя, представляет собой первую книгу в многотомной «Истории России» Лонгмана. Авторы задаются вопросом, который волновал историков России, начиная с составителей «Повести временных лет», именно — «откуда есть пошла Руская земля». Отвечая на этот вопрос, авторы, опираясь на новейшие открытия и исследования, пересматривают многие ключевые моменты в начальной истории Руси. Ученые заново оценивают роль норманнов в возникновении политического объединения на территории Восточноевропейской равнины, критикуют киевоцентристскую концепцию русской истории, обосновывают новое понимание так называемого удельного периода, ошибочно, по их мнению, считающегося периодом политического и экономического упадка Древней Руси.
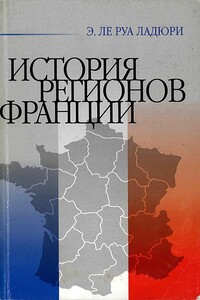
Эмманюэль Ле Руа Ладюри, историк, продолжающий традицию Броделя, дает в этой книге обзор истории различных регионов Франции, рассказывает об их одновременной или поэтапной интеграции, благодаря политике "Старого режима" и режимов, установившихся после Французской революции. Национальному государству во Франции удалось добиться общности, несмотря на различия составляющих ее регионов. В наши дни эта общность иногда начинает колебаться из-за более или менее активных требований национального самоопределения, выдвигаемых периферийными областями: Эльзасом, Лотарингией, Бретанью, Корсикой и др.

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

Пособие для студентов-заочников 2-го курса исторических факультетов педагогических институтов Рекомендовано Главным управлением высших и средних педагогических учебных заведений Министерства просвещения РСФСР ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ, Выпуск II. Символ *, используемый для ссылок к тексте, заменен на цифры. Нумерация сносок сквозная. .
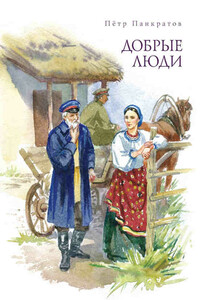
В книге П. Панкратова «Добрые люди» правдиво описана жизнь донского казачества во время гражданской войны, расказачивания и коллективизации.
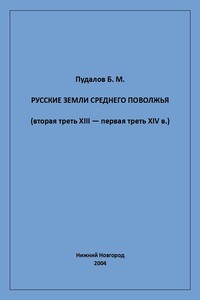
В книге сотрудника Нижегородской архивной службы Б.М. Пудалова, кандидата филологических наук и специалиста по древнерусским рукописям, рассматриваются различные аспекты истории русских земель Среднего Поволжья во второй трети XIII — первой трети XIV в. Автор на основе сравнительно-текстологического анализа сообщений древнерусских летописей и с учетом результатов археологических исследований реконструирует события политической истории Городецко-Нижегородского края, делает выводы об административном статусе и системе управления регионом, а также рассматривает спорные проблемы генеалогии Суздальского княжеского дома, владевшего Нижегородским княжеством в XIV в. Книга адресована научным работникам, преподавателям, архивистам, студентам-историкам и филологам, а также всем интересующимся средневековой историей России и Нижегородского края.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.