Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в советской стране - [99]
Дальше речь пойдет именно о Тарловском. У него был не только большой опыт практики перевода с подстрочников, он много размышлял над этим феноменом. В 1940 году в журнале «Дружба народов» появилась его статья «Художественный перевод и его портфель»[523]. Здесь в теоретической перспективе рассматривается принципиальный вопрос об «интуитивном» переводе — термин, принадлежащий Тарловскому и обозначающий как раз те случаи, когда переводчик не знаком с языком оригинала и поэтому вынужден пользоваться подстрочниками[524]. Несмотря на то что такой тип перевода «не может быть проповедуем в принципе» и исчезновение его «должно быть одной из конкретных целей нашей советской литературы», Тарловский утверждает, что то, что метод интуитивного перевода получил у нас за последние годы огромное развитие и распространение, то, что им вооружилась целая армия людей, сделавших его своей второй, а иногда и основной специальностью, то, что такой перевод является господствующим в планах издания нашей многонациональной литературы, то, что с каждым днем на него растет спрос в читательских массах Советского Союза, — это само по себе чрезвычайно отрадное явление. Оно свидетельствует о мощном стремлении советских национальных культур к взаимному сближению и ознакомлению, о стремлении, которое не терпит отлагательства и вынуждает ответственных за это сближение людей вырабатывать на ходу особые приемы работы, обеспечивающие нашим народам необходимые темпы взаимного ознакомления[525].
Однако, по мнению Тарловского, следует критически относиться к тому, чтобы понятие подстрочника упрощалось до чрезвычайности:
Обеспечение переводчика необходимыми материалами зачастую сводилось к грубому пересказу содержания оригинала. Изящная бабочка, в порядке обратной метаморфозы, превратилась в отвратительную гусеницу[526].
Чтобы повысить качество «интуитивного перевода», Тарловский предлагает целый набор вспомогательных средств, в совокупности названных «портфелем», который в идеале должен сопутствовать каждому переводу. Портфель включает в себя, в частности, описание языка оригинала, или «языковой паспорт» (алфавит с русской фонетической транскрипцией, морфологические и этимологические сведения, система ударения, а для стихотворцев — данные о версификации и звукописи), словари в оба направления, оригинал (и его текст в транскрипции с указанием ударения, рифмы, строфики, аллитерации и т. п.), характеристику автора и данного произведения, два подстрочных перевода (один «очень точный хотя и не вполне вразумительный», второй — «вполне вразумительный, хотя и не столь точный»), комментарий к подстрочникам (реалии, фразеология, игра слов, имена и названия и т. п.)[527].
С особым пафосом Тарловский ратует за право доступа «интуитивного» переводчика к оригиналу, отмечая, что такому переводчику часто приходится работать с одними подстрочниками. При этом Тарловский ссылается, в частности, на значение оригинала как «мощного, хотя и таинственного, генератора эмоции»[528]. В этой связи уделяется немало внимания случаям отсутствия оригинала. Кроме исторического обзора («Песни Оссиана», Мериме, привычка Пушкина скрываться за ссылками на несуществующие оригиналы «по тем или иным, но всегда благородным мотивам») дается целая типология «литературных мистификаций». И хотя Тарловский спешно добавляет, что «[в] нашей советской действительности, где моральное авторское право является одним из почтеннейших прав гражданина, предпосылки для литературных мистификаций безвозвратно исчезли»[529], кое-какие из его примеров имеют явное отношение к современным ему практикам. Так, отмечается отсутствие подлинников «ряда песен даже такого великого ашуга, как Сулейман Стальский»[530]. В другом примере заключается намек на индустрию Джамбула: «В практике переводов с казахского известен случай, когда переводивший, переоценив свое интуитивное дарование, заставил „тулпара (коня) скакать в нужные моменты“»[531].
Если, таким образом, в существовании некоторой советской переводческой машины и в «целенаправленной возне вокруг Джамбула»[532] и других можно не сомневаться, как тогда быть с бахтинской перспективой? Ведь можно было бы утверждать, что если перевод являет собой полную фикцию, то на практике мы имеем дело с «одноголосыми» (по Бахтину) текстами. Такая трактовка представляется неверной. Во-первых, постулировать текст как перевод означает создать иллюзию его «двуголосости», что необходимо при конструировании легитимного речевого субъекта или позиции, из которой высказывание имело бы силу. Во-вторых, речь во всех этих случаях идет о текстах, которые ориентируются на оригинал, пусть даже фиктивный. Оригинал, «второй голос», здесь представляет собой набор конвенций, горизонт ожидания, общее представление о характеристиках чужой культуры.
Хотя действительный характер такой манипуляции пока недостаточно изучен, ясно, что понятие culture planning «сверху» в применении к такому переводу нуждается в модификации. Речь, по всей видимости, не обязательно идет о процессах, прямая инициатива которых исходила бы из каких-либо государственных органов. «Сверху» устанавливались рамки и создавался спрос на переводные тексты определенного типа. Так, например, функционировали декады литератур и искусств национальных республик, которые проводились в Москве начиная с весны 1936 года и продолжались вплоть до войны
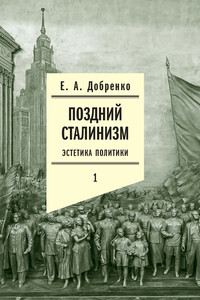
Новое фундаментальное исследование известного историка сталинской культуры Евгения Добренко посвящено одному из наименее изученных периодов советской истории – позднему сталинизму. Рассматривающая связь между послевоенной советской культурной политикой и политической культурой, книга представляет собой культурную и интеллектуальную историю эпохи, рассказанную через анализ произведенных ею культурных текстов – будь то литература, кино, театр, музыка, живопись, архитектура или массовая культура. Обращаясь к основным культурным и политическим вехам послевоенной эпохи, автор показывает, как политика сталинизма фактически следовала основным эстетическим модусам, конвенциям и тропам соцреализма.

Сборник составлен по материалам международной конференции «Медицина и русская литература: эстетика, этика, тело» (9–11 октября 2003 г.), организованной отделением славистики Констанцского университета (Германия) и посвященной сосуществованию художественной литературы и медицины — роли литературной риторики в репрезентации медицинской тематики и влиянию медицины на риторические и текстуальные техники художественного творчества. В центре внимания авторов статей — репрезентация медицинского знания в русской литературе XVIII–XX веков, риторика и нарративные структуры медицинского дискурса; эстетические проблемы телесной девиантности и канона; коммуникативные модели и формы медико-литературной «терапии», тематизированной в хрестоматийных и нехрестоматийных текстах о взаимоотношениях врачей и «читающих» пациентов.

В книге на обширном фактическом материале анализируются дискурсивные особенности советской культуры 1920–1950-х годов — эффективность «ключевых понятий» идеологии в коммуникативных приемах научного убеждения и художественной выразительности. Основное внимание автора сосредоточено на тематических и жанровых предпочтениях в области фольклористики и «народного творчества». Автор дает свои ответы на вопросы: на каких риторических, социально-психологических и институциональных основаниях в советской культуре уживаются соцреализм, эпос (и квазиэпос), сказка (и «советская сказочность»), пафос пролетарской бдительности и популярность колыбельных песен, дидактика рациональности и едва ли не магическая вера в «заговорную силу» слова.

Сборник «СССР: Территория любви» составлен по материалам международной конференции «Любовь, протест и пропаганда в советской культуре» (ноябрь 2004 года), организованной Отделением славистики Университета г. Констанц (Германия). В центре внимания авторов статей — тексты и изображения, декларации и табу, стереотипы и инновации, позволяющие судить о дискурсивных и медиальных особенностях советской культуры в представлении о любви и интимности.

Фольклористы 1920–1930-х пишут об отмирании и перерождении привычных жанров фольклора. Былина, сказка, духовный стих, обрядовая песня плохо согласуются в своем традиционном виде с прокламируемым радикализмом социальных и культурных перемен в жизни страны. В ряду жанров, обреченных на исчезновение под натиском городской культуры и коллективизации, называется и колыбельная песня.

Новое фундаментальное исследование известного историка сталинской культуры Евгения Добренко посвящено одному из наименее изученных периодов советской истории – позднему сталинизму. Рассматривающая связь между послевоенной советской культурной политикой и политической культурой, книга представляет собой культурную и интеллектуальную историю эпохи, рассказанную через анализ произведенных ею культурных текстов – будь то литература, кино, театр, музыка, живопись, архитектура или массовая культура. Обращаясь к основным культурным и политическим вехам послевоенной эпохи, автор показывает, как политика сталинизма фактически следовала основным эстетическим модусам, конвенциям и тропам соцреализма.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
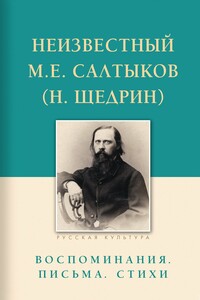
Михаил Евграфович Салтыков (Н. Щедрин) известен сегодняшним читателям главным образом как автор нескольких хрестоматийных сказок, но это далеко не лучшее из того, что он написал. Писатель колоссального масштаба, наделенный «сумасшедше-юмористической фантазией», Салтыков обнажал суть явлений и показывал жизнь с неожиданной стороны. Не случайно для своих современников он стал «властителем дум», одним из тех, кому верили, чье слово будоражило умы, чей горький смех вызывал отклик и сочувствие. Опубликованные в этой книге тексты – эпистолярные фрагменты из «мушкетерских» посланий самого писателя, малоизвестные воспоминания современников о нем, прозаические и стихотворные отклики на его смерть – дают представление о Салтыкове не только как о гениальном художнике, общественно значимой личности, но и как о частном человеке.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.
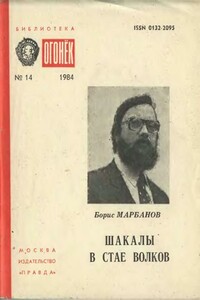
Борис Владимирович Марбанов — ученый-историк, автор многих научных и публицистических работ, в которых исследуется и разоблачается антисоветская деятельность ЦРУ США и других шпионско-диверсионных служб империалистических государств. В этой книге разоблачаются операции психологической войны и идеологические диверсии, которые осуществляют в Афганистане шпионские службы Соединенных Штатов Америки и находящаяся у них на содержании антисоветская эмигрантская организация — Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС).

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.