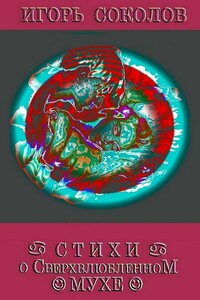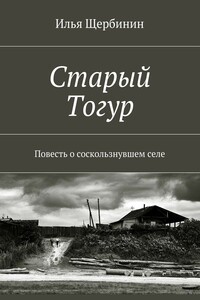Наверное, это можно было охарактеризовать как некое порнографическое или эротическое искусство, но когда частью этого искусства становился ты сам и твоя семья, твои жены, и когда кто-то грязными потными липкими руками брал эти фотографии, то тебе уже было не до смеха!
Вместе с тем, Финкельсон потерял аппетит, стал вялым и больным, впрочем, больным он был всегда, но на этот раз он даже подходил к забору, завидев меня или Марию с Матильдой, и очень громко жаловался нам на свою головную боль. Удивительно: человек делал тебе гадости и общался с тобой самым непринужденным образом.
Больше всего Финкельсона заботило, что все творящиеся безобразия в этом мире оставались в своем первородном нетронутом виде, в то время как собственные безобразия он, конечно же, не замечал.
«Банально-зловещая штука, однако, эта коварная жизнь», – думал Финкельсон и потихоньку сходил с ума. Вскоре он дошел до того, что стал вешать свои анонимки у себя в саду на деревьях, фотобумага, к счастью, у него закончилась. И вот эти все его доносики свисали, как долгоносики, с веток, напоминая порой елочные украшения, и даже стали привлекать к себе множество прохожих, которых Финкельсон пытался отогнать от своего загадочного сада обыкновенного метлой.
– Кыш, кыш, пошли, жидовские морды, – кричал на них и махал метлой Финкельсон, вызывая со стороны всего преступного синдиката, каким теперь представлялся ему весь мир, исключительно лишь смех.
Человек спятил, а им смешно! Интересно, а если спятят они, то кто тогда над ними будет смеяться?! Да, я глядел с жалостью на Финкельсона, осознавая, что все мы можем в одно мгновение превратиться в несчастных сумасшедших, закрытых в своих тягостных палатах и думающих что-то о своем.
Через несколько дней Финкельсона все же увезли, и его дом остался пуст, у него никого не было, и однажды, побуждаемый исключительно лишь любопытством, я забрался в его дом и обнаружил на чердаке фотоаппарат на штативе, несколько пленок с нашими фотографиями и с десяток его безумных писем, и тут же, пригласив в его дом Марию с Матильдой, показал им это.
– О, Боже, какая грязь! – воскликнула Матильда. Мария тоже кивнула головой, а потом мы вместе сожгли все эти бумаги и пленки, и этой же ночью сожгли дом несчастного безумца Финкельсона, чтобы никто и никогда больше не смел подглядывать за нами, а потом мы этот участок выкупили и засеяли его множеством лип, чтобы во время цветения вдыхать ее благостный душистый аромат.
Так бы, возможно, что мы и забыли навсегда про Иосифа Финкельсона и никогда бы не вспоминали про него, ибо он уже навсегда исчез, растворился, как мимолетная тень человека, которому было не дано оставить после себя хоть какой-то след, свое потомство, но совершенно неожиданно объявился «новый друг нашей семьи», который и напомнил нам о существовании Иосифа Финкельсона и о его великой борьбе против тайных происков сионизма.
Как ни странно, этого человека звали Эпименид. Его, по его же словам, назвал так отец, помешанный на греческой философии, и в честь знаменитого критянина Эпименида, чью фразу: «Если кто лжет и сам утверждает, что лжет, то лжет ли он в этом случае или говорит правду?» – его отец любил повторять без конца. Эпименид работал в почтовом отделении сортировщиком по рассылке заказных писем и бандеролей. Несмотря на свой небольшой заработок, был вполне доволен своей судьбой, поскольку никогда не гнушался заглядывать в чужие письма, осознавая, что знание чужой частной жизни может однажды превратиться в дополнительный источник дохода.
В реальной жизни он был немного слабоумным интровертом, что не мешало ему, однако, шантажировать некоторых людей, о которых он узнавал в изучаемой им корреспонденции. При этом его шантаж проводился в самой вежливой и утонченной форме.
О, бедный Финкельсон, если бы он только знал, в чьи руки попадали все его анонимки со снимками, то он вряд ли бы сошел с ума и не стал бы пользоваться услугами только одного почтового отделения, уж наверняка бы ездил отправлять свои жалобы на нашу странную семейку в город. Но судьба распорядилась иначе, и в один из солнечных дней июля, после давно уже позабытого растворения в природе Иосифа Финкельсона к нам в дом вошел оглушенный громким лаем Асмодея приятный с виду молодой, с тонкими чертами лица и голубыми глазами человек. Он производил собой необычное впечатление вырождающегося аристократа. Очень мягкий женственный голос, постоянно не сползающая с лица нахальная и в то же время сладко-приторная улыбка. Это и был тот самый Эпименид, который держал в руках красную папочку с безумными писульками Финкельсона и нашими фотографиями. Матильда сразу же направила его в мой кабинет, где он и начал вести в самых изысканных выражениях свой шантаж, пример восхитительного красноречия и яркой двусмысленности, в какую некоторые типы, вроде Эпименида, слегка запаковывают свои корыстные цели.
– Мы все здесь грешники на земле, – начал вести издалека свою речь Эпименид, – и я грешник, и вы грешник, в общем, все мы грешники!
– Я что-то не пойму, – удивился я, и в самом деле не понимая, о чем идет речь.