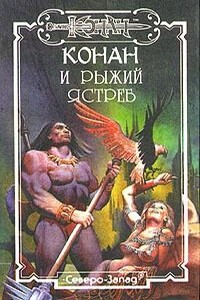Дважды рожденные - [20]
Кром! Неужели та сила и жестокость, с которой опускает свистящую плеть его мать, тянется, как по невидимой ниточке, как по невидимой трубочке, из острых глазок, похожих на два белых когтя, обмакнутых в сладкий, но смертельный яд?.. И это его мать!.. Не боявшаяся в одиночку сражаться с толпой ваниров, метким выстрелом попадающая прямо в глаз разбуженного среди зимы и оттого особенно яростного медведя… Его мудрая, его гордая, его отважная мать Маев…
Маев подняла руку для третьего удара, но отчего-то медлила. Толпа зашелестела, недоумевая, что с ней случилось. В глазах матери, обращенных к колдуну, появилось что-то странное. Затем в них сверкнул гневный огонь, и занесенная рука опустилась. Женщина отбросила от себя плеть и, ни слова не говоря, отошла прочь от ели.
Перекрывая недовольный, осуждающий рокот толпы, заговорил Меттинг:
— Наказывать и карать — дело мужчин. Дело женщин — рожать, кормить и залечивать раны. Наверное, мы поторопились, заставив Маев творить расправу над собственным сыном. У Конана нет отца, нет старших братьев.
Но может быть, найдется у него родственник из мужчин, пусть и не близкий, который мог бы вместо Маев закончить начатое ею?
Родственник нашелся быстро. Из толпы охотно протиснулся толстый Черок, не то двоюродный дядя, не то троюродный брат Конана, он точно не помнил. Похлопывая себя по ляжкам и подмигивая дружкам, он подошел к ели и поднял в земли плеть.
— Тебе осталось восемь ударов, — напомнил Меттинг.
Вжжик!.. Черок был не столько силен, сколько толст, но хлестал он крепче матери. По силе ударов Конан чувствовал, что Буно теперь не сводит взора с его услужливого родственника.
Вжжик!.. Мальчик был уже на грани. Вот-вот он заскулит или взвоет, покрыв себя навеки позором. Чтобы этого не случилось, он еще раз взглянул прямо в лицо колдуну и, чувствуя, как ненависть выжигает ему глаза и сдавливает горло, крикнул:
— Эй, ты! Жалкий и грязный колдун! Вжжик!.. Ты просил меня помиловать?.. Вжжик!.. Я плюю на твои милости, слышишь?! Клянусь Кромом… Вжжик!.. я… тебя… Вжжик!.. уничтожу!..
Казалось ли Конану, либо на самом деле с каждым его выкриком удары становились все яростнее, но только удар, последовавший за криком «уничтожу!» обрушился на него такой болью, что мальчик потерял сознание.
Словно сквозь мутную и душную пелену сна он слышал голоса, витающие вокруг него, сокрушенные, сочувственные, злорадные, — и среди них выделялся приторный ненавистный говорок Буно:
— Ну, разве ж так можно? Так недолго засечь и до смерти. Ведь это же мальчик, а не рыжий ванир. Ах, Черок, Черок… Если бы ты был таким в бою… Но отойдите-ка все от него! Я попробую его вернуть, если сумею.
Конан чувствовал, как на горящую его спину льют потоки теплой воды, как кто-то из женщин забинтовывает ее мягкой тряпицей… Ему растирали виски, дышали на веки. Голоса становились все отчетливей, в голове его понемногу прояснялось. Мальчик готов уже был открыть глаза и крикнуть насмешливо: «А я и не думал отправляться на Серые Равнины! Зря радуетесь!»
Но внезапно он почувствовал, как зубы его разжимают острием кинжала и в рот вливается жгучая горькая жидкость.
— Сейчас-сейчас, попробуем вытащить мальчишку с того света… — бормотал ласковый голос. — Если уж и это питье ему не поможет, тогда я не знаю… тогда уж ничем не поможешь ему больше… Ах, Черок! Неужто же твои удары оказались для бедного мальчугана роковыми…
Конану захотелось выплюнуть горькое снадобье и громко крикнуть, что старик поит его отравой. Но он не успел: яд уже проник в горло и заструился вниз, к желудку. Странное онемение разливалось по всему его телу. Конан перестал чувствовать свои руки, ноги, пылающая болью спина словно уплыла от него куда-то… Только искра сознания шевелилась под лобной костью.
«Вот что, должно быть, та самая искра жизни, — вяло подумал мальчик. — То, что живет, когда все остальное умерло…»
Конан не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, не мог вздохнуть, не мог приоткрыть веки. Яд, которым опоил его Буно, сделал все мускулы холодными и безжизненными, как стоячая вода на дне колодца. Но он все слышал, все чувствовал, все осознавал.
Он слышал, как говорила с ним его мать. Киммерийские женщины никогда не плачут, даже когда теряют своих сыновей. Маев сидела возле недвижного тела сына долго, очень долго. Порой она брала его холодную ладонь и держала в своей, словно пытаясь отогреть, оживить, растопить застылую кровь. Конан изо всех сил пытался шевельнуть пальцами, дать ей понять, что он жив, — но даже пальцы, даже легкие и чуткие пальцы не слушались его…
«Отчего ты ушел, Конан? — спросила Маев после долгого и черного, как беззвездная ночь, молчания. — В мир Серых Равнин не уходят от десяти ударов плетью. Ты обиделся на меня за два моих удара и ушел?.. Но разве моя обида не больше? Мой сын, сын могучего и славного Ниала стал вором. Может быть, ты ушел, чтобы не носить на себе всю жизнь позорное клеймо вора? Тогда я понимаю тебя. Я прощаю тебя, сын мой, если ты ушел от стыда. Прости и ты».
Конан слышал, как к ней подходят мужчины и говорили, что тело мальчика нужно предать земле. Они говорили, что нельзя держать тела умерших не зарытыми слишком долго. Но Маев только молча смотрела на них, и они уходили.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
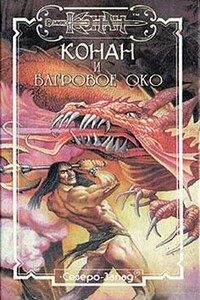
Приключения Конана и его спутника на Черном континенте, южнее реки Стикс. Колдунов и злодеев там оказалось меньше, чудес — больше…
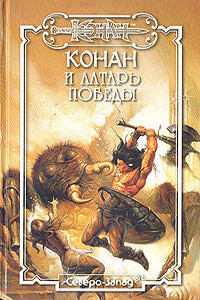
...и снова Конан-Варвар отправляется в странствия, снова он принимает бой и снова выходит победителем.Северо-Запад, 1997 г. Том 36 "Конан и алтарь победы"Даниэл Уолмер. Обида предков (рассказ), стр. 391-438.

Коварно проданный в рабство, Конан попадает на таинственный остров в северных водах Вилайета, дабы стать Юным и Вечным Богом…

Прошло совсем немного времени с тех пор, как Ангела и его друг Рейден обезвредили главу опасной организации «ЗПН», разыскивающей синтонимов. Но жизнь ребят не успевает вернуться в прежнее русло: у Рейдена и его отца внезапно ухудшается здоровье, Ангелу начинают посещать странные предчувствия, а его новая подруга Минда определенно что-то скрывает. Вдобавок на носу свадьба Рейдена и Найси, вот только у будущих супругов ни дня не проходит без скандала. В таких непростых обстоятельствах друзьям предстоит разобраться с новыми способностями Ангелы, снова столкнуться лицом к лицу с «ЗПН» – и постараться остаться в живых…

В ту ночь из замка не вышел никто, но троим предстоит вернуться. Город, так легко отпустивший своих детей, не примет их обратно. Одинокой лесничей с колдовскими зелеными глазами, бродячему охотнику, боящемуся быть узнанным, и олененку нет дороги назад. На скольких тропах предстоит заблудиться, чтобы понять, куда идти? Какая из молний озарит верный путь? Встреча с каким из чудовищ окажется встречей с самим собой? Никто не выйдет из прохладной чащи прежним. Кого-то ждут слава и почет, кого-то – встреча с прошлым, а кого-то – смерть.

Разгребая последствия противостояния между Капитаном Америка и Железным Человеком, Скотт Лэнг, невероятный Человек-Муравей, оказывается перед выбором: быть супергероем или хорошим отцом и другом. Пока Скотт пытается наладить свою жизнь и привыкает жить под домашним арестом, Хоуп ван Дайн и доктор Хэнк Пим вынуждены скрываться от правительства, и Хоуп примеряет на себя роль супергероя: новой Осы. Секретные частицы Пима — единственный ключ к тому, чтобы вернуть их жизни в привычное русло и разгадать тайны квантовою мира.
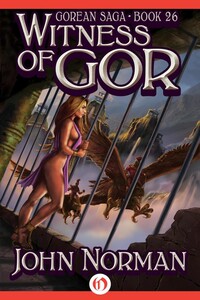
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Это сказочная новелла о девушке по имени Нонарабис и ее суженном Белом Вороне из нового вымышленного мира великих Триад. В ней повествуется о приключениях сказочной принцессы с самого детства и до свадьбы. В своих приключениях она сталкивается с воинами света Беневолентцами, которые одеты в шкуры драконов, мореплавателями Эвроклидонцами, которые ходили по морю на корабле под названием Дракон Светоносец. А также колдунами, чародеями, исполинами. Завершает книгу рассказ «Змей и Орлица» про морские приключения команды Эвроклидонцев.

Когда-то Кларенс Т. Хантер учился на строителя звездолетов и мечтал о работе инженером на верфи. Но встреча с представителем более развитой цивилизации, а позже трудная и опасная Миссия изменили его жизнь. Отныне его задача — исправлять ошибки высших.
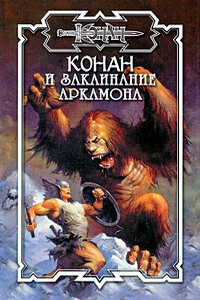
В одной из таверн Шадизара Конана нанимает древняя старуха, для того чтобы он нашел пропавшую при загадочных обстоятельствах девушку.

…и снова Конан-Варвар отправляется в странствия, снова он принимает бой и снова выходит победителем.«Северо-Запад Пресс», «АСТ», 2007, том 134 «Конан и потомки атлантов»Дуглас Брайан. Красавица в зеркалах (повесть), стр. 170-382.

В пустыне Конан спасает жизнь лорду Риго. В свою очередь лорд просит варвара помочь ему отыскать «Жемчужину пустыни» — черную жемчужину размером с кулак. Конан соглашается видя шанс поживиться, однако не только они желают заполучить жемчужину…«Северо-Запад Пресс», «АСТ», 2004, том 96 «Конан и Тайна песков»Дуглас Брайан. Тайна песков (повесть), стр. 59-136.