Достоверность характера - [14]
Когда же Рыбак подползет к Сотникову, между ними произойдет такой разговор:
«— Патроны остались?
— Одна обойма,— глухо прохрипел Сотников.
— Если что, будем отбиваться.
— Не очень отобьешься.
Действительно, с двадцатью патронами не долго продержишься, думал Рыбак, но другого выхода у них не оставалось. Не сдаваться же в конце концов в плен — придется драться».
Неужели и в этом эпизоде проглядывает будущее предательство Рыбака?
К тому же если еще добавить, что Сотников хотел убить старосту, с которым потом судьба сведет его на виселице, а Рыбак воспротивится этому намерению, то и опять не все так просто сходится с «ответом».
Война испытывала человека на излом в разных направлениях. Если бы автор поставил точку в тот момент когда Сотников и Рыбак попадают в плен, вероятно, многие бы отдали предпочтение Рыбаку, потому как до этого момента Рыбак более уверенно выдерживает испытания. В общем-то, и в плен они угодили не из-за Рыбака. Но вот наступили другие испытания, к которым Рыбак оказался неподготовленным и которые Сотников выдержал безукоризненно. Кто же такой Сотников?
Сотников — командир Красной Армии, мечтавший о подвигах, о славе. «Думалось, разразится война, и им будут обеспечены блестящая победа, ордена, газетная слава и все прочее, к чему они были вполне подготовлены и чего, безусловно, заслуживали. По крайней мере, больше других». В первые же дни войны все рухнуло, его, как ему казалось, непобедимая воинская часть была полностью разгромлена в неравном бою, а сам он оказался в плену. Сам Сотников дрался геройски, но позор разгрома и плена подействовал на него угнетающе. К тому же война разжаловала его в рядовые. И не потому он не сменил свою пилотку на крестьянскую шапку, что у мужика не было лишних шапок (ведь за продуктами они ходили не в сельпо и не на базу, а к тому же мужику, у которого и продукты были нелишними), а потому, что воинская пилотка была для него не просто головным убором. Сотников — офицер по всей своей натуре, и всякая «партизанщина» ему претила, а для Рыбака она была родной стихией.
Своей жестокостью Сотников, пожалуй, чем-то напоминает Бритвина, но в то же время отличается от него в главном. Многие, попав в положение Сотникова (тот же Бритвин), начинали искать виновных вокруг себя, Сотников же прежде всего видит свою собственную вину. Повторяем, в бою он дрался геройски, но это он считал элементарным для себя долгом, так сказать, нормой поведения. Но вот то, что он — командир Красной Армии — попал в плен, что его часть разгромлена,— это для него личный позор, и тут он для себя — самый строгий судья. Сотников угнетен, и тому есть много подтверждений, но он не раздавлен, поэтому он и находит в себе силы не склонить головы перед врагом, находит силы умереть, как говорится, смертию смерть поправ. И подвиг Сотникова вплетется своей ниточкой в тот нравственный закон войны, который был выстрадан всем народом.
Тщетно искать прямые причины предательства Рыбака в индивидуальных чертах его характера или в каких-то глубоко скрытых намерениях. В первые месяцы войны он был ранен, попал в окружение, нашел приют в чужой крестьянской семье. «Казалось, все прежнее, для чего он жил и старался, рухнуло навсегда». А чуть оклемавшись, уже думал: «Москва не Корчевка, защитить ее, пожалуй, сыщется сила». Вскоре с такими же, как и он, окруженцами, Рыбак подался в лес. Перед смертью Сотников подумает: «Рыбак был неплохим партизаном...» И это правда, как правда и то, что скажет Сотников Рыбаку в камере.
«— Не бойся,— сказал он (Рыбак.— А. Л.).— Я тоже не лыком шитый.
Сотников засмеялся неестественно коротеньким смехом.
— Чудак! С кем ты вздумал тягаться?
— А вот увидишь!
— Это же машина! Или ты будешь служить ей, или она сотрет тебя в порошок! — задыхаясь, просипел он».
А потом Рыбак станет думать: «Действительно, фашизм — машина, подмявшая под свои колеса полмира, разве можно, стоя перед ней, размахивать голыми руками? Может, куда разумнее будет подобраться со стороны и сунуть ей меж колес какую-нибудь рогатину». Рыбак хорошо понимал, что перед ним машина, что она может убить, и видел свою задачу в том, чтобы остаться для нее неуязвимым. Но он не подозревал еще одного варианта: машина эта может не только убить, но и раздавить, раздавить в человеке человека. Когда Рыбак это поймет и поймет, что раздавлен этой машиной, у него и появится намерение покончить жизнь самоубийством.
Мы уже говорили, что война испытывала человека на излом в самых разных, порой в очень для него неожиданных, направлениях. «Машина» сумела раздавить Рыбака, и предал уже не прежний Рыбак, как не прежний Рыбак пришел и к мысли о самоубийстве... И судьба Рыбака куда глубже раскрывает масштабы тех испытаний, что выпали на долю людей в период войны, нежели это видится тем толкователям повести В. Быкова, которые до сих пор еще пользуются в своей практике отработанными мерками. Нет, война уничтожала, разрушала не только материальные ценности, она разрушала или пыталась разрушить и самого человека, и здесь главный вопрос в том, насколько человек противостоял разрушительной стихии войны. И совершенно прав А. Адамович, когда он пишет: «Нет, писатель не «ловит» Рыбака на чувствах, на мыслях, выдающих «будущего» предателя. Для теперешнего Быкова это было бы упрощением. Хотя определенная характеристика Рыбака в «неясном облегчении», что товарищ мертв и незачем мучиться сомнениями, заключена. Но ведь такие «неясные побуждения», за которые не всегда можно осуждать человека, уравновешиваются в Рыбаке вполне ясными и определенными поступками, характеризующими его как надежного (до поры) товарища, партизана».
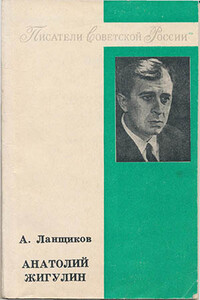
Небольшая книга Анатолия Ланщикова представляет собою содержательное и живое повествование о творческой судьбе талантливого советского поэта Анатолия Жигулина. Творчество поэта рассматривается критиком в контексте его времени и времени жизни автора книги. Совпадение по времени — не главное для критика. Главное, что определяет дух книги, — это совпадение по мироощущению, по объективному видению эпохи.

Встречи с произведениями подлинного искусства никогда не бывают скоропроходящими: все, что написано настоящим художником, приковывает наше воображение, мы удивляемся широте познаний писателя, глубине его понимания жизни.П. И. Мельников-Печерский принадлежит к числу таких писателей. В главных его произведениях господствует своеобразный тон простодушной непосредственности, заставляющий читателя самого догадываться о том, что же он хотел сказать, заставляющий думать и переживать.Мельников П. И. (Андрей Печерский)Бабушкины россказни.

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
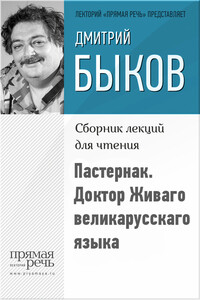
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.

