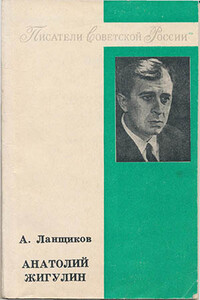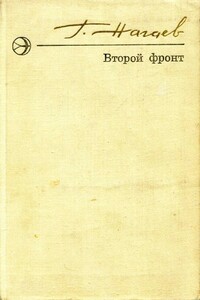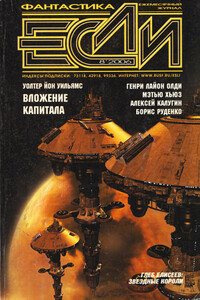Анатолий ЛАНЩИКОВ
ДОСТОВЕРНОСТЬ ХАРАКТЕРА
...дело искусства отыскивать фокусы и выставлять их в очевидность. Фокусы эти, по старому разделению, характеры людей; но фокусы эти могут быть характеры сцен народов, природы.
Лев Толстой
1
Вероятно, можно дать множество определений искусству, и все они будут по-своему верны, но в то же время ни одно из них не окажется универсальным, хотя бы потому, что верны они будут только с какой-то одной или, в лучшем случае, только с нескольких точек зрения. Невозможность универсального определения всегда упирается в невозможность разом исчерпать все возможные на искусство точки зрения. Говорят, что искусство отражает действительную жизнь, запечатлевая наиболее существенные ее черты. Пожалуй, возражать против такого взгляда не приходится, однако столь общее толкование не может полностью удовлетворить наше любопытство. Например, сразу же возникает вопрос: «А для чего нам нужен этот отраженный мир, зачем наряду с подлинником иметь еще довольно приблизительный его дубликат?»
С уверенностью можно сказать здесь лишь одно: потребность в искусстве не исчерпывается потребностью в развлечении, иначе бы оно не имело столь же обширной истории, сколь обширной является история самого человечества.
С доисторических времен тянутся к нам свидетельства человеческой потребности в искусстве. Если же предельно спрямить пути развития искусства и заглянуть в самые сумерки исторической дали, то и там обнаружатся его следы, хотя бы в виде наскальной живописи, имевшей закоинательный (магический) смысл. И только по недостатку свидетельств (история сохранила, к примеру, искусство далеких эпох, выражаемое в слове, звуке, ритме, жесте) наши суждения не могут здесь претендовать более, чем на предположительность. Однако последующие эпохи и жизнь некоторых нынешних полудиких народностей с их идолами, шаманством, ритуальными песнями и плясками уже более определенно указывают на цели и источники искусства. Искусством человек пытался противостоять смерти, потому то, вероятно, столь неистребима потребность человека в художнике — творце этого искусства [1].
На каждом шагу человека подстерегали опасности и беды. Не ведая их первопричин, человек не мог полагаться в жизни только на самого себя и потому искал посторонней защиты у сил не менее тайнственных и могущественных, чем силы, ему враждебные. Для связи с первыми человеку казался недостаточным его обыденный язык, и он искал ее (связи) в звуках, ритмах, жестах, не подчиненных обыденным утилитарным целям. Воображение рисовало ему самые фантастические образы, однако их составляющие черты он черпал все таки из действительной ему жизни.
И вот наступали времена, когда человеку начинало казаться, будто он установил с таинственными силами прочную связь, обеспечивающую ему уверенное на земле существование, и то, вероятно, были времена совершенствования, оттачивания форм магического искусства, предвещавшие одновременно неминуемый кризис установившегося миросозерцании. В конце концов жизнь опровергала заблуждение, и человек снова погружался в спасительные для него сомнении, всегда чреватые новыми интенсивными поисками положительного идеала.
Мысль о загробной жизни, вырванная из исторического контекста, представляется нам и наивной, и нелепой, хотя в свое время она произвела целый переворот в человеческом мировосприятии. Идея бесконечности жизни наконец-то примирила человека с видимой смертью и впервые вдохнула в него чувство исторической уверенности.
Нас еще на школьной скамье отталкивает и пугает своей жестокостью древний обычай погребения вместе с усопшими их жен, рабов, лошадей, оружия, драгоценностей и различной домашней утвари. Но в этом обычае не было ничего субъективно жестокого, и вряд ли присутствие в нем объективной жестокости способствовало развитию не лучших инстинктов. Совершенствуя новый обычай, искусство постепенно удаляло из него элемент присущей ему объективной жестокости. (Мы уже говорили, что искусство всегда противостояло смерти, в этом, вероятно, и заключается его изначальный гуманизм.) Поскольку потусторонняя жизнь предполагалась в тех же земных формах, то человека (усопшего) и снаряжали в нее, как в далекое путешествие. И тут искусство должно было вновь обратиться к подобию и изображением рабов, женщин, животных заменить при погребении живую натуру. Нетрудно догадаться, что художники той поры совершенствовали свое мастерство в сторону сходства изображаемого с натурой. История не сохранила нам ни имен тех, кто, надо полагать, не без борьбы утвердил в сознании своих современников мысль о тождестве живого оригинала и его подобия, ни подробностей самой борьбы, но суть не в именах и подробностях, а в том, что новое великое заблуждение спасло множество человеческих жизней и открыло искусству пути для дальнейшего развития его гуманистического содержания и для совершенствования его форм.
Но и это искусство, разумеется, не преодолело законов своего собственного развития. Непререкаемость авторитета нового миросозерцания и нового искусства в конце концов породила ереси. С одной стороны — вечность изображаемого художником, а с другой — непрочность погребенного тела... Бальзамирование, снятие золотых масок. Та же потребность в увековечивании тела дала толчок к развитию жанра, которому мы обязаны появлением на местах захоронения скульптур-надгробий. Потом в силу разных причин этот важный жанр получал различные направления своего развития, забывалась истинная причина его возникновения, но никогда полностью не устранялась первоначальная идея увековечивания внешнего образа усопшего, хотя она трансформировалась под воздействием неодинаковых миросозерцание. Со временем скульптура стала привычным атрибутом городского пейзажа.