Достоевский во Франции. Защита и прославление русского гения, 1942–2021 - [57]
«Эти подспудные, тайные душевные движения, это волнение, этот непрерывный, похожий на хаотичное передвижение атомов вихрь, которые эти гримасы выявляют», для Саррот, бесспорно, представляют собой действие, подобное тому, что можно найти в романах Дос Пассоса или в каком-либо фильме. Важно, однако, что оно вместе с тем отличается «своей тонкостью, сложностью, своей природой — если употребить слово, столь дорогое сердцу Достоевского, — подпольной природой (nature „souterraine“)»[253].
Следы этих «подпольных» душевных движений «в различных, бесконечно различных вариациях»[254] Саррот находит у большинства персонажей Достоевского. «Подпольный человек» — это не только герой «Записок из подполья», но и Карамазов-отец, Ипполит, Лебедев, Грушенька, Рогожин, Павел Павлович из «Вечного мужа» и многие другие.
За ними, по убеждению Саррот, обнаруживается то общее, что объединяет всех людей. Эти душевные движения, «имеющие общее происхождение […] почерпнутые из одного источника», стремятся «подобно капелькам ртути, к воссоединению и смешению в единую массу, для чего им приходится преодолевать разделяющие их оболочки»[255].
За подобными действиями скрывается «тайная пружина». Ссылаясь на письмо Достоевского к Страхову (18 марта 1869), Саррот пишет: «Именно на это изначальное душевное движение, которое дает импульс всем остальным, на эту внутреннюю точку, намекал Достоевский, когда он говорил о той „сущности“ (fond), о „той же, моей всегдашней сущности“ (mon éternel fond), откуда он, по его выражению, брал материал для всех своих произведений, хотя по форме они и были столь различны»[256].
Пытаясь дать определение «подполью» Достоевского, Саррот приходит к выводу, что главное в «подпольном человеке» — «маниакальная потребность контакта, связи с другим человеком, потребность в успокаивающей, но недостижимой, невозможной близости», которая
в тесных объятиях властно затягивает в свои сети почти всех героев Достоевского, преследует их, как помутнение рассудка, всякую минуту побуждает их любыми способами пытаться проложить себе путь к другому человеку, пробиться к нему, проникнуть в его душу как можно глубже, заставить его убрать свою тревожащую, свою невыносимую непрозрачность, а также заставляет и их самих в свой черед раскрываться, открывать другим тайники своего сердца, доверять самые сокровенные мысли[257].
На этом основании можно утверждать, считает Саррот, что между творчеством Достоевского и произведениями Кафки, которые пытаются ему противопоставить, существует совершенно явная, очевидная связь, поскольку у героев Кафки можно увидеть то же самое желание контакта:
Если бы кто-нибудь захотел узнать, какая именно точка в творчестве Достоевского стала для Кафки своеобразным «пунктом отправления», пунктом «старта», то нашел бы он его, без сомнения, в тех самых «Записках из подполья» […][258].
Точно такая же связь прослеживается и между романами Достоевского и Пруста:
Вполне возможно, светский снобизм Пруста, который с упорством маниакального наваждения накладывает отпечаток на всех его персонажей, есть не что иное, как разновидность той же самой навязчивой потребности в проникновении, в слиянии. Но только возникшей и насаждаемой на совершенно иной почве, в парижском обществе, утонченном и придерживающемся строго определенных формальностей, существовавшем в Сен-Жерменском предместье в начале нашего века[259].
Саррот, таким образом, опровергая мнение о тупиковости психологического романа, восстанавливает его линию развития, казавшуюся сплошным разрывом. Естественно, Саррот судит о вещах с позиции своего времени и своих эстетических воззрений. Поэтому для нее, как было отмечено, художественные средства, к которым прибегал Достоевский, чтобы показать подспудные психические движения, были весьма просты, примитивны. Правда, при этом она писательским чутьем угадывает, что, избери Достоевский другую манеру письма, он бы больше потерял, чем выиграл, ибо уделял бы больше внимания мелочам и утратил бы свою оригинальность и «поэтическую мощь».
Определяя позицию Саррот по отношению к Достоевскому, важно принимать во внимание уже отмеченную особенность восприятия его творчества во Франции, которая состоит в том, что большую роль в формировании восприятия русского автора сыграли писатели. Естественно, писательское восприятие имеет свою специфику: оно во многом задано личностной творческой стратегией, а творчество иного автора зачастую становится предлогом для выражения собственных мыслей.
Эстетические взгляды Саррот, порожденные изменениями, происшедшими в художественном мышлении XX века, во многом определили особенности трактовки ею творческого наследия русского писателя. Начиная с первого своего произведения — книги «Тропизмы» — Саррот и в художественных, и в теоретических текстах, провозглашая «эру подозрения» к традиционным формам литературы, последовательно развивала мысль о необходимости пересмотреть сложившиеся принципы художественного постижения действительности, привычные подходы к оценке эстетических явлений. Основным объектом ее внимания становятся глубинные универсальные общечеловеческие основания психики, которые она называет «тропизмами».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
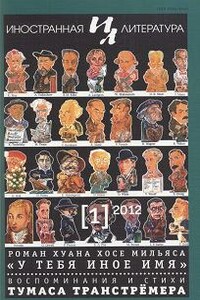
Первый номер журнала за 2012 год открывает подборка стихов и прозы (несколько новелл из автобиографической книги “Воспоминания видят меня” (1993)) последнего (2011) лауреата Нобелевской премии по литературе шведа Тумаса Транстрёмера(1931). Один из переводчиков и автор вступления Алеша Прокопьев приводит выдержку из обоснования Нобелевским комитетом своего выбора: эти“образы дают нам обновленный взгляд на реальность”. Справедливо:“Смерть – это безветрие”. Второй переводчик – Александра Афиногенова.
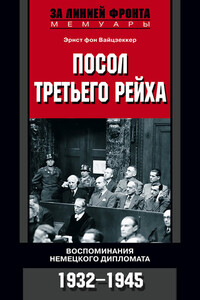
В книге представлены воспоминания германского дипломата Эрнста фон Вайцзеккера. Автор создает целостную картину настроений в рядах офицерства и чиновников высших государственных структур, а также детально освещает свою работу в Лиге Наций, ведет летопись постепенной деградации общества после победы Гитлера. Высказываясь по всем важнейшим событиям политической жизни, опытный дипломат дает яркие характеристики Риббентропу, Гессу, Гитлеру, с которыми близко общался; его точные зарисовки, меткие замечания и отличная память помогают восстановить подлинную атмосферу того времени.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих В предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

В книге секретаря ЦК ВСРП Я. Береца разоблачается роль империалистических держав, прежде всего США, и внутренней реакции в организации (под кодовым названием американских спецслужб – «операция “Фокус”») в 1956 г. контрреволюционного мятежа в Венгрии, показана героическая борьба сил социализма по разгрому контрреволюции. Книга написана на богатом фактическом и архивном материале. В качестве приложения публикуются некоторые документы и материалы, касающиеся событий того периода. Рассчитана на широкие круги читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.