ДОПРОС. Пьеса для чтения - [11]
Прокурор неплохо читает — во всяком случае для прокурора. Поэту нравятся его собственные стихи, даже в прокурорском исполнении. И даже слеза на глаза навёртывается. Но его занимает нечто другое.
— Вы что, религиозны? — почти с ужасом, тихо спрашивает он.
— Настолько, насколько религиозен может быть прокурор, даже родившийся на Украине, — насмешливо отвечает тот. — Люди, да и народы, так дорого платят за свои убеждения, которые потом сплошь и рядом оказываются ошибочными, что иногда подумаешь: а не лучше ли не иметь их совсем?
— Жизнь богаче любых убеждений, — углубляясь в себя, замечает поэт. — Единственным непререкаемым убеждением может быть только человеческая доброта и сострадание. Но, боюсь, что это дело не столько наживное, сколько врождённое. Это как душевное благородство. Или есть, или нету. Вообще-то, добро и зло, видимо, в равной степени спят в каждом человеке. Всё дело в том, кого, что из них мы выкликаем в данный момент. Или что культивируем в данный момент — как в отдельном человеке, так и в обществе в целом.
— Как знать. Может, вы и правы...
Какое-то время они оба молчат. Потом молча выпивают. Поэт скребёт серебряной чайной ложечкой икры из хрустального вазончика.
— Нет уж, дудки, — произносит задумчиво, намазывая икру на кроху белого хлеба. — Умирать я буду с Зинаидой, на её руках — это и будет единственным моим искуплением перед нею.
Произнесено таким тоном, что прокурор на мгновение оторопевает. Смотрит на поэта, потом говорит — тоже изменившимся голосом:
— Вам виднее. А я вот точно знаю больницу, в которой помру. Мавзолей, чёрт возьми, даже мрамор на облицовке тот же самый, а не больница. А вот вечности всё равно не гарантирует, — усмехается.
И вновь наливает:
— Поехали?
— Поехали.
— А вообще, дорогой, позвольте спросить: какого чёрта вы с нею связались?
— С кем?
— Ну, с этой... Музой вашей...
— A-а... И вы туда же?
— Ну да. Нашли бы барышню попроще, помоложе. Без прошлого. Да и без будущего, — загадочно улыбается прокурор. — Без компрометирующих связей. А то еще наплачетесь с ней, да и она наплачется, — опять со странной, авгуровой улыбкой.
— Видите ли, дорогой. Бывает Муза, а бывает Судьба. И они очень редко соединяются в одном лице. А тут — соединилось. Скрестилось. С Музой ещё можно и связаться, и развязаться. А с Судьбой — не связываются. И уж тем более — не развязываются. И это касается всех. Всех. Без исключения, — в упор, хоть и уже нетрезво, смотрит на прокурора. — Вот вам сколько лет было в Нюрнберге?
— Ну, тридцать восемь, — не сразу отвечает прокурор.
— А ей?
— Кому это ей?
— Не придуряйтесь. Стенографистке вашей.
— Ну, сорок пять. — Мнётся под взглядом поэта прокурор.
— И чего же это вы до сих пор с нею не развязываетесь?
Прокурор сопит.
— Поехали! — предлагает поэт и наливает ещё по одной.
— Поехали!
Оба ловят себя на том, что одинаково занюхивают коньяк лимоном. И оба строят друг другу мальчишеские гримасы.
— А вообще, товарищ прокурор, вы столько советов понадавали мне за сегодняшний день, — неожиданно трезвеет поэт, — что пора бы и честь знать. Вы хоть и генеральный, но я, беспартийный большевик, всё-таки старше вас.
— Ну-ну. Не дуйтесь, — вальяжно кладёт свою прокурорскую лапищу на нервную, продолговатую поэтову ладонь. И миролюбиво предлагает:
— Поехали? Приятно всё-таки выпить в компании с Нобелевским лауреатом...
— Бывшим...
— Лауреаты бывшими не бывают! — назидательно задирает палец прокурор.
— Будем надеяться. Поехали, — обречённо соглашается поэт.
X
Всё та же комната Кузьмича.
Всё тот же грохот в дверь.
Всё то же напряжение на лицах.
Кузьмич нерешительно встаёт, но до двери дойти не успевает. Она распахивается, и в её проеме, как курица в скворешниковом летке, появляется дебёлая Евдокия.
Зинаида прижимает руки к груди.
Евдокия грузно проходит в комнатку, но сесть ей негде, и она, едва помещаясь здесь, грозно, как рок, возвышается надо всеми.
Она запыхалась.
Кузьмич ласково наливает ей в свою собственную рюмку.
Евдокия выпивает и вкусно занюхивает рукавом.
— Ну, и слава Богу, — откидывается на стуле Зинаида, а Ольга, напротив, напрягается ещё больше.
— Живой... Звонили...
— Кто звонил? — резко спрашивает Ольга.
— Сами звонили, — обиженно отвечает домработница.
— И что? — спрашивает Зинаида.
Кузьмич хранит молчание и спокойствие.
— И всё, — просто отвечает Евдокия, отирая тыльной стороной большой, почти прокурорской ладони, пот со лба. — Еле добегла. Думала, выпрыгнет, — показывает куда-то в сторону громадной, колышущейся левой груди.
Такая грудь действительно любые постромки порвет. Зинаида плачет, закрыв лицо руками.
— Так откуда звонил-то? — не унимается Ольга.
— А кто ж его знаить.
— И что сказал?
— Со мною усё у порядку... Скоро буду.
Дипломатичная Евдокия опускает концовку: где же скоро буду?
Ольга тоже закрывает лицо ладонями и низко склоняется над столом. Их головы, русая пышная и тёмная крашеная, стриженная, такие разные, почти соприкасаются.
Женщины, похоже, плачут на пару: каждая о своём.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
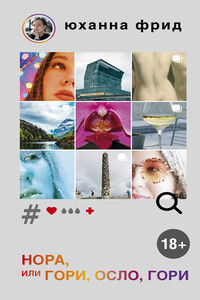
Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
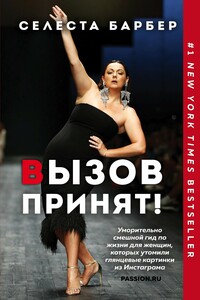
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
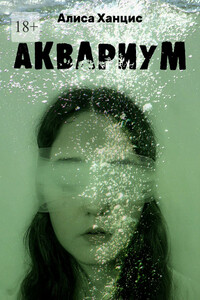
Апрель девяносто первого. После смерти родителей студент консерватории Тео становится опекуном своего младшего брата и сестры. Спустя десять лет все трое по-прежнему тесно привязаны друг к другу сложными и порой мучительными узами. Когда один из них испытывает творческий кризис, остальные пытаются ему помочь. Невинная детская игра, перенесенная в плоскость взрослых тем, грозит обернуться трагедией, но брат и сестра готовы на всё, чтобы вернуть близкому человеку вдохновение.