Дом над Онего - [3]
— Это сейчас еще людно. Летом Конда Бережная оживает, появляется городской народ, целыми днями на огородах горбатится. Другие сидят с удочкой на озере, по лесу бродят, грибы да ягоды собирают. А зимой — пусто. Только волки воют.
— А тебя-то что потянуло на это безлюдье?
— Это безлюдье не всегда было безлюдным. Не забывай, что шунгитовые почвы, так называемый северный чернозем, сделали Заонежье одним из самых богатых и густонаселенных районов Русского Севера. Взять хоть знаменитые ярмарки в Шуньге, на которые съезжались купцы со всей России, и не только. Помнишь рассказ про варшавского еврея, заказавшего двадцать тысяч сорочьих тушек, ибо у польских дам тогда была мода на шляпки с сорочиными перьями? Или вот снимки в недавно изданном альбоме «Заонежье в старых фотографиях» — посмотри, какие богатые дома, зажиточные люди, с каким достоинством они держатся… А Кижи?! Ведь ничего подобного нет нигде в мире. Не случайно профессор Орфинский[6], знаменитый специалист по Карелии, назвал Заонежье феноменом деревенской культуры. Вот одна из причин, почему я здесь.
— Но меня удивляет, что правду о России ты ищешь на ее окраинах. Именно там, где русская культура подвергалась инородным влияниям. Сначала просидел десять лет на Соловках — так сказать, у черта на куличках, там, где рядом с саамскими сейдами[7] высятся православные стены, оплетенные вдобавок колючей проволокой. А теперь вот забился в вымирающее Заонежье, где ученые до сих пор обнаруживают следы то вепсов, то карелов, то русских. Может, в каком-нибудь заброшенном уголке средней полосы — на Волге или Оке — ты бы раздобыл больше материала, обнаружил больше русского фольклора и чисто русских типов?
— Онежское озеро — место всевозможных «стыков», не только культурных. Начиная со стыка Балтийского щита с Русской плитой (граница между ними проходит именно здесь) и кончая конфликтом интересов тех, кто ратует за добычу урана, и тех, кто предупреждает, что это сулит гибель всему региону. Что же касается культурных «стыков», у меня совершенно другое мнение. Я полагаю, что диалог культур более плодотворен и больше способствует выживанию каждой из них, нежели обособленное существование.
— Например?
— Пожалуйста: русская былина. Заонежье вошло в мировую фольклористику как «Исландия русского эпоса». Сколько было охов да ахов, когда сосланный в Петрозаводск за вольнодумство студент Павел Рыбников (nota bene: позднее вице-губернатор Калиша)[8] опубликовал в 1861 году первый том собранных здесь былин. Вначале никто не верил, что в Олонецкой губернии, в двух шагах от столицы, мог сохраниться древнерусский эпос. Другое дело — Сибирь, вдали от цивилизации: там, может, и в самом деле уцелела какая-то русская старина, а здесь — нет, совершенно невероятно… Рыбникова обвиняли в мистификации. Позже, убедившись в его правоте, принялись носить на руках и осыпать наградами. А сам Павел Рыбников сохранность былин в Заонежье объяснял как раз этой, как он выразился, «украйностью между карелами и чудью», пограничьем, на котором оказались русские, — это заставило их поддерживать память народа при помощи былин о славном киевском и новгородском прошлом, сохраняя тем самым национальную автономию. Аналогичный процесс шел у карелов, которые, стремясь к сохранению национальной самобытности, пели руны. Вот так встреча двух культур на берегах Онежского озера дала нам два великолепных памятника мировой литературы: древнерусские былины и карело-финский эпос «Калевалу».
— Ладно, убедил. Вернемся к феномену деревенской культуры Заонежья. Ты действительно считаешь, что от нее что-то осталось, кроме старых фотографий и кижского ансамбля? И потом, ты единственный иностранец, которого я знаю, живущий в российской деревне. Почему именно деревня?
— И это ты называешь деревней? Ну-ну…
— А ты как назовешь?
— Не знаю, Веня, как назвать то, что здесь осталось, но это уж точно не деревня… По крайней мере, в прежнем значении этого слова. К тому же на карте Конды Бережной или нет вовсе, или она обозначена как «нежилая». Другими словами, это скорее призрак деревни. Лжедеревня. Село-обман.
— Тогда я тем более не понимаю, почему ты здесь.
— Я считаю, что гибель деревни — важнейшее событие в истории России XX века. Не войны, не революция и даже не «строительство социализма», а именно уничтожение деревни радикально изменило лицо России. И чтобы получше рассмотреть ее новый облик, я решил, что мало наблюдать лоснящиеся физиономии новых русских в пабах на Тверской, в кулуарах Белого дома или на экране телевизора — следует всмотреться в лица оставшихся на месте трагедии. Увидеть их обезумевшие от безысходности глаза.
— И долго ты собираешься на них смотреть?
— Годик-другой… Я обнаружил здесь множество сюжетов, которые хочется вымесить руками, как глину для моей русской печи.
— Это метафора?
— Отнюдь нет — опыт. Когда мы приехали, печи в доме были разбиты, своды в них пообвалились. Не перезимуешь. Я начал искать печника. Один пришел, посмотрел и говорит: «Надо новую печь класть». Что-то посчитал, велел раздобыть пару тысяч кирпичей и исчез бесследно. Хорошо, что мы его не послушали, — куда бы потом девали эту груду? Другой полез в печь, весь вымазался, помедитировал, покрутил носом, взял задаток за песок… и тоже исчез. Третий явился нежданно-негаданно, точно упал с неба вместе со своим трактором, — привез песок, взял деньги да и грохнулся спьяну из кабины — сломал шею. Больше я печников не искал — взялся за работу сам. Сосед показал, в каких пропорциях смешивать глину с песком и сколько добавлять сажи. Теперь про русскую печь я знаю побольше иных русских.
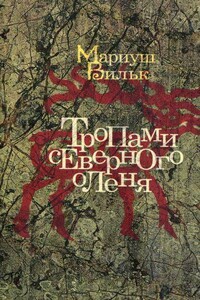
Объектом многолетнего внимания польского писателя Мариуша Вилька является русский Север. Вильк обживает пространство словом, и разрозненные, казалось бы, страницы его прозы — записи «по горячим следам», исторические и культурологические экскурсы, интервью и эссе образуют единое течение познающего чувства и переживающей мысли.Север для Вилька — «территория проникновения»: здесь возникают время и уединение, необходимые для того, чтобы нырнуть вглубь — «под мерцающую поверхность сиюминутных событий», увидеть красоту и связанность всех со всеми.Преодолению барьера чужести посвящена новая книга писателя.
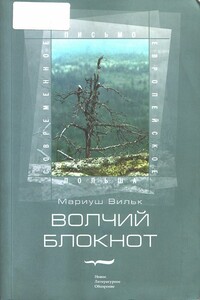
В поисках истины и смысла собственной жизни Мариуш Вильк не один год прожил на Соловках, итогом чего и стала книга «Волчий блокнот» — подробнейший рассказ о Соловецком архипелаге и одновременно о России, стране, ставшей для поляков мифологизированной «империей зла». Заметки «по горячим следам» переплетаются в повествовании с историческими и культурологическими экскурсами и размышлениями. Живыми, глубоко пережитыми впечатлениями обрастают уже сложившиеся и имеющие богатую традицию стереотипы восприятия поляками России.

Объектом многолетнего внимания польского писателя Мариуша Вилька является русский Север. Вильк обживает пространство словом, и разрозненные, казалось бы, страницы его прозы — замечания «по горячим следам», исторические и культурологические экскурсы, рефлексии и комментарии, интервью, письма и эссе — свободно и в то же время внутренне связанно образуют единое течение познающего чувства и переживающей мысли.
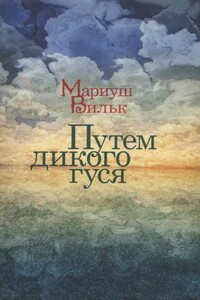
Очередной том «Северного дневника» Мариуша Вилька — писателя и путешественника, почти двадцать лет живущего на русском Севере, — открывает новую страницу его творчества. Книгу составляют три сюжета: рассказ о Петрозаводске; путешествие по Лабрадору вслед за другим писателем-бродягой Кеннетом Уайтом и, наконец, продолжение повествования о жизни в доме над Онего в заброшенной деревне Конда Бережная.Новую тропу осмысляют одновременно Вильк-писатель и Вильк-отец: появление на свет дочери побудило его кардинально пересмотреть свои жизненные установки.

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.